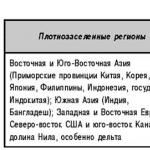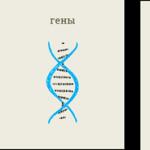«Клод Штайнер. Сценарии жизни людей. Школа Эрика Берна»: Питер; СПб; 2003
ISBN 5-318-00707-4
Аннотация
«Сценарии жизни людей» - уникальная книга, которая выдержала многочисленные переиздания во всем мире и стала бестселлером в США и Европе.
Ни для кого не секрет, что в каждом из нас заложена некая жизненная программа. Одни «отрабатывают карму», другие «играют роли». Но ясно одно - некая основа в судьбе человека есть. И эта «основа» явно положительного характера. Откуда же в таком случае берутся преступники, алкоголики, наркоманы, жертвы насилия и обмана? Трудно поверить, что некоторых «запрограммировали» на сплошные неудачи или на постоянную борьбу за место под солнцем.
Клод Штайнер ввел в психологию понятие «жизненных сценариев». Какой смысл вложил в него автор? Сценарии жизни «без любви», «без разума» и «без радости», сделанные Штайнером еще в 1974 году, оказались действительно общечеловеческими. Их истинность проверена временем. Можем ли мы заменить эти сценарии какими-нибудь более достойными? Да!
Признанный мастер практической психологии не оставляет места пассивности, безысходности и обреченности. Его основной принцип: «все можно и следует изменить для обретения счастья, независимости и любви».
Клод Штайнер
Сценарии жизни людей
Школа Эрика Берна
Сценарии жизни - то, что мы выбираем, но можем не выбирать!
Книга Клода Штайнера появилась в русском переводе хотя и с временной задержкой, но тем не менее чрезвычайно своевременно. Более ранняя публикация в России работ Эрика Берна в конце 80-х и начале 90-х годов XX века, с одной стороны, привлекла внимание читателей к проблематике практической психологии, а с другой стороны, оставила транзактный анализ в памяти большинства лишь как одну из более или менее распространенных в мире концепций, автор которой уже является достоянием истории. Соответствие концепции транзактного анализа реалиям современной России было весьма поверхностным, особенно если учесть перегруженность текстов Берна собственно американской спецификой - эти книги писались только для американцев либо для жителей соседних стран - Канады и Мексики.
С работой Клода Штайнера все обстоит иначе. За прошедшие со времени написания книги годы оказалось, что тенденции психологического развития современного общества, описанные учеником Берна, стали неотъемлемой частью процесса глобализации мировой экономики. И в России, как части мирового сообщества, психологическое развитие общества по Штайнеру (и транзактному анализу) может быть описано в терминах, совпадающих с современными исследованиями различий в национальных культурах. Возможно то, что соответствие идей Штайнера современному миру вообще и России в частности связано с тем, что большую часть его клиентов ко времени написания книги составляли в основном люди, переживающие серьезные жизненные кризисы - алкоголики, наркоманы, преступники и жертвы преступлений и т.п. В этом он радикально отличался от Берна, в практике которого большую часть времени занимали менее «острые» случаи. И если идеи и книги Берна были соотнесены с «нормативным» поведением людей в Америке, то работы Штайнера носят по своей природе интернациональный характер, поскольку страдание не знает политических границ. В связи с этим можно сказать, что мир стал более «страдающим» за последние 20 лет и что дискомфорт людей в начале XXI века связан в основном с драматическими изменениями в политической, экономической и технологической сферах.
Такие описания жизненных сценариев, как «без любви», «без разума» и «без радости», использованные Штайнером в 1974 году, стали к настоящему времени «общими» благодаря статьям во многих газетах и журналах. Понятие «кризиса середины жизни» дополнилось новым - «кризисом первой четверти жизни», поскольку современное общество выдвигает часто невыполнимые требования к молодому поколению, пропагандируя через СМИ обязательность раннего успеха в любом начинании. Возраст высших достижений в жизни под воздействием успехов в спорте и электронной коммерции смещается на жизненный период 18–23 лет, что подготавливает наступление кризиса к 25 годам.
Конкретным воплощением современности этой книги является сопоставление концептов Штайнера с результатами исследований Г. Хофстеде (1980), в которой описано исследование, проведенное более чем на 80 тысячах сотрудников корпорации IBM в 53 странах мира, выделено четыре фактора, лежащих в основе различий между национальными культурами:
Дистанция власти (характеристика, показывающая степень готовности не обладающих властью членов общественных институтов данной национальной культуры согласиться с тем фактом, что власть в обществе распределена неравномерно);
Индивидуализм/коллективизм (индивидуализм характерен для национальных культур, в которых связи между индивидуумами не очень тесны и от людей ожидается, что они будут заботиться прежде всего о себе и, возможно, о своих наиболее близких родственниках; коллективизм характерен для национальных культур, в которых люди с рождения интегрированы в сплоченные группы, которые на протяжении всей жизни защищают их в обмен на лояльность);
Мужественность/женственность (мужественность соответствует национальным культурам, четко разделяющим тендерные - социальные мужские и социальные женские - роли, при этом мужские роли являются более конфронтационными и ориентированными на материальный успех, женские же - более мягкими и направленными на улучшение качества жизни; женственность соответствует национальным культурам, в которых четкое социальное разделение тендерных ролей отсутствует);
Избегание неопределенности (характеристика, показывающая уровень психологического дискомфорта, переживаемого членами данной национальной культуры при столкновении с неизвестными ранее жизненными ситуациями). Понятие дистанции власти в национальной культуре совпадает с идеей Штайнера о сценарии беспомощности (глава 11), то есть о ситуации, когда в семье ребенок проживает ситуации его «спасения» и учится быть беспомощным. В западных цивилизациях отдельный гражданин может сокращать дистанцию власти за счет существования демократических институтов, но это требует его осознанного выбора, и об этом пишет Штайнер.
Человек, привыкший к тому, что его «спасают» от рождения до смерти и отказывающийся принять на себя ответственность, - типичное порождение советского строя. Разумеется, государство было заинтересовано в выращивании такого сорта людей, но изменения, происшедшие в общественно-политическом и экономическом устройстве России, заставили этих людей переживать настоящую трагедию. Недавнее исследование ООН последствий радиационной катастрофы в Чернобыле показало, что максимальный ущерб был нанесен жителям обширного региона не радиацией, а нарушением семейных связей, отрывом от мест проживания и воспитанием поколения иждивенцев, способных лишь на ожидание льгот от государства. Разумеется, исследование не касалось людей, непосредственно участвовавших в ликвидации последствий аварии на АЭС. По прочтении «Сценариев…» становится ясно, что подход Клода Штайнера носит достаточно универсальный характер и вполне применим для индивидуальной работы как со «Спасателями», так и с «Жертвами».
Понятие индивидуализма/коллективизма в национальной культуре совпадает с идеей Штайнера о сценарии неравенства и индивидуализма (глава 12). Из этих идей далее развиты концепты соревновательности и силовых игр как элементов североамериканской национальной культуры.
Эти представления также вошли в жизнь практически каждого жителя России и обострили внутри- и межличностные конфликты. Привычный коллективизм заменился не менее привычным «диким» индивидуализмом. «Диким» в том смысле, что основной упор делается не на отстаивании собственных прав и свобод, а на жестком захвате чужих прав и свобод, прежде всего экономических.
Эта жесткая, по Штайнеру, «силовая» игра приносит достаточно много психологического дискомфорта ее участникам и рост популярности традиционного способа снятия такого дискомфорта - приобщение к церкви - можно считать одним из показателей ее распространенности. Поскольку очевидно, что соревновательность в нашем обществе будет расти и дальше (вообще-то именно она является двигателем экономического развития), необходимо уметь конструктивно ее реализовывать и соответственно корректировать.
Мужественность/женственность рассмотрены очень подробно в статьях X. Викофф о полоролевом программировании мужчин и женщин.
Представления о традиционных половых ролях в России изменяются в настоящее время от декларированных в советское время равных возможностей к реальному равенству. Однако для такого реального равенства еще не хватает ни правовой практики в конкретных случаях, ни массовости в масштабах страны. Таким образом, изменения в представлениях о традиционных половых ролях создают и будут создавать почву, благоприятную для семейных ссор и домашнего насилия, карьерных кризисов и служебных конфликтов. Приведенный в книге материал может стать хорошим поводом для анализа личного отношения к тендерным проблемам в семье и на работе.
Избегание неопределенности как характеристика национальной культуры соотносится с таким представлением транзактного анализа, как автономность. Предполагается, что если человек достаточно автономен от собственного сценария, то для вариантов развития событий он разрабатывает социально приемлемые способы поведения - вполне взрослое поведение. Если же сценарий человека, в соответствии с его детскими решениями, контролирует его жизнь, то этот спектр социально приемлемых, разнообразных способов поведения недоступен и реализуется единственная/стереотипная форма поведения. То есть избежать неопределенности можно, структурировав свою жизнь на основе информации об окружающем мире.
К сожалению, жизнь современных россиян не может быть структурирована достаточно подробно и большинство из них должно сосуществовать с жизненной неопределенностью. Переживание неопределенности в течение долгого времени всегда идет с высокой вероятностью стресса и дистресса, то есть приводит на прием к психологу (или наркологу).
С учетом того, что описанные выше российские аналогии представлений Штайнера имеют в основном негативный характер, следует подчеркнуть, что вся книга пронизана оптимизмом. Клод Штайнер как признанный мастер практической психологии не оставляет места пассивности, безысходности, обреченности. Его основной принцип: «все можно и следует изменить для достижения человеком искренности, автономности и любви».
Книга написана в традиционном для транзактного анализа стиле - простым и доступным языком со всеми необходимыми пояснениями и может быть рекомендована читателям всех возрастных групп.
Книга изобилует условными именами клиентов - Блэк (Черный), Уайт (Белый) и т.д., разумеется, это следует понимать лишь как желание избежать идентификации читателей с героями конкретных сюжетов и не более того.
По аналогии с популярностью работ Эрика Берна можно предположить, что книга Штайнера может также привлечь читателей к самостоятельной работе над своими детскими решениями, однако следует оговорить, что при бережном отношении к себе не следует пытаться удалить зуб мудрости самостоятельно, стоя перед зеркалом. Книга прекрасно описывает процесс работы профессионала, и именно к профессионалам и следует обращаться для безопасного достижения необходимого результата. К счастью, за последние годы в стране выросло целое поколение практических психологов, способных работать в интересах клиента.
Кандидат психологических наук,
доцент СПбГУ Юрий Ковалев
www.e-psychology.ru
Посвящаю эту книгу
Эрику Берну:
учителю, другу, отцу и брату
Клод Штайнер
Сценарии жизни людей
Школа Эрика Берна
Сценарии жизни - то, что мы выбираем, но можем не выбирать!
Книга Клода Штайнера появилась в русском переводе хотя и с временной задержкой, но тем не менее чрезвычайно своевременно. Более ранняя публикация в России работ Эрика Берна в конце 80-х и начале 90-х годов XX века, с одной стороны, привлекла внимание читателей к проблематике практической психологии, а с другой стороны, оставила транзактный анализ в памяти большинства лишь как одну из более или менее распространенных в мире концепций, автор которой уже является достоянием истории. Соответствие концепции транзактного анализа реалиям современной России было весьма поверхностным, особенно если учесть перегруженность текстов Берна собственно американской спецификой - эти книги писались только для американцев либо для жителей соседних стран - Канады и Мексики.
С работой Клода Штайнера все обстоит иначе. За прошедшие со времени написания книги годы оказалось, что тенденции психологического развития современного общества, описанные учеником Берна, стали неотъемлемой частью процесса глобализации мировой экономики. И в России, как части мирового сообщества, психологическое развитие общества по Штайнеру (и транзактному анализу) может быть описано в терминах, совпадающих с современными исследованиями различий в национальных культурах. Возможно то, что соответствие идей Штайнера современному миру вообще и России в частности связано с тем, что большую часть его клиентов ко времени написания книги составляли в основном люди, переживающие серьезные жизненные кризисы - алкоголики, наркоманы, преступники и жертвы преступлений и т.п. В этом он радикально отличался от Берна, в практике которого большую часть времени занимали менее «острые» случаи. И если идеи и книги Берна были соотнесены с «нормативным» поведением людей в Америке, то работы Штайнера носят по своей природе интернациональный характер, поскольку страдание не знает политических границ. В связи с этим можно сказать, что мир стал более «страдающим» за последние 20 лет и что дискомфорт людей в начале XXI века связан в основном с драматическими изменениями в политической, экономической и технологической сферах.
Такие описания жизненных сценариев, как «без любви», «без разума» и «без радости», использованные Штайнером в 1974 году, стали к настоящему времени «общими» благодаря статьям во многих газетах и журналах. Понятие «кризиса середины жизни» дополнилось новым - «кризисом первой четверти жизни», поскольку современное общество выдвигает часто невыполнимые требования к молодому поколению, пропагандируя через СМИ обязательность раннего успеха в любом начинании. Возраст высших достижений в жизни под воздействием успехов в спорте и электронной коммерции смещается на жизненный период 18–23 лет, что подготавливает наступление кризиса к 25 годам.
Конкретным воплощением современности этой книги является сопоставление концептов Штайнера с результатами исследований Г. Хофстеде (1980), в которой описано исследование, проведенное более чем на 80 тысячах сотрудников корпорации IBM в 53 странах мира, выделено четыре фактора, лежащих в основе различий между национальными культурами:
Дистанция власти (характеристика, показывающая степень готовности не обладающих властью членов общественных институтов данной национальной культуры согласиться с тем фактом, что власть в обществе распределена неравномерно);
Индивидуализм/коллективизм (индивидуализм характерен для национальных культур, в которых связи между индивидуумами не очень тесны и от людей ожидается, что они будут заботиться прежде всего о себе и, возможно, о своих наиболее близких родственниках; коллективизм характерен для национальных культур, в которых люди с рождения интегрированы в сплоченные группы, которые на протяжении всей жизни защищают их в обмен на лояльность);
Мужественность/женственность (мужественность соответствует национальным культурам, четко разделяющим тендерные - социальные мужские и социальные женские - роли, при этом мужские роли являются более конфронтационными и ориентированными на материальный успех, женские же - более мягкими и направленными на улучшение качества жизни; женственность соответствует национальным культурам, в которых четкое социальное разделение тендерных ролей отсутствует);
Сценарий Эрика Берна
Я познакомился с Эриком во вторник вечером в 1958 году в его кабинете на Вашингтон-стрит. Я не помню, о чем мы с ним говорили, но я точно помню, что, когда я уходил, он подошел ко мне и сказал: «Ты хорошо говоришь. Я надеюсь, ты придешь еще».
Я пришел. И в течение следующих лет мы постепенно стали ближайшими друзьями. Наши отношения строились медленно. У нас бывали трудные времена, когда мне хотелось уйти и больше не видеть Берна, но бывали и прекрасные моменты. В последний год его жизни наши отношения были особенно прочными, и я благодарен за то, что перед смертью Эрика мы чувствовали друг к другу глубокую привязанность.
Приблизительно в 1967 году Эрик Берн начал проводить по четвергам, с половины девятого до десяти вечера, встречи с группой людей, заинтересовавшихся его методом. На деле вечер кончался, когда все расходились по домам (порой это случалось под утро).
Он почти всегда присутствовал, кроме редких случаев чтения лекций или болезни. Он записывал многие из этих семинаров на пленку. О теме семинара мы договаривались заранее. Если не находилось желающих выступить, Эрик выступал сам. Иногда он читал отрывки из очередной книги, о которых присутствовавшие затем высказывали свое мнение, иногда рассказывал об одном из недавних сеансов групповой или индивидуальной терапии.
На этих встречах запрещалась профессиональная мистификация, равно как и любые формы напыщенности, - ерунда, по выражению самого Берна. Если в его присутствии кто-то из коллег начинал сыпать медицинскими терминами, он терпеливо дослушивал до конца, а затем, затянувшись из трубки и подняв брови, резюмировал: «Это все отлично; но я понял только то, что вы не вылечили своего пациента».
Он не допускал словоблудия, он настаивал на понятных словах, коротких предложениях, лаконичных текстах и кратких выступлениях. Он ввел запрет на употребление прилагательных «пассивный», «враждебный» и «зависимый» по отношению к пациентам и поощрял использование глаголов в описаниях людей. Он считал слова, оканчивающиеся на «к» («маньяк», «алкоголик», «шизофреник»), особенно оскорбительными.
Берн делал все для того, чтобы во время совместной работы его Взрослый и Взрослые его коллег были активны и работали на пределе своих возможностей. Он осуждал использование терапевтами в групповой работе физических контактов, распитие кофе и алкогольных напитков во время встреч и внезапные озарения как способ переключения внимания на себя. Во время научных конференций он не допускал уклонения от участия (в виде извинений), приукрашивания (с помощью громких слов), отвлечения от сути (путем предложения блестящих идей и гипотетических примеров) и употребления напитков.
Он проводил вторник и среду в Сан-Франциско, где у него была частная практика и он работал консультантом, после чего возвращался в Кармел, где он писал книги и вел еще одну практику. Он проводил выходные в Кармеле и ходил на пляж при каждой возможности.
Похоже, его главной задачей было писать книги. Я думаю, он ставил это выше всего в своей жизни.
Он был человеком с принципами; свою книгу «Транзактный анализ в психотерапии» он предварил следующим посвящением: «In Memoriam Patris Mei David Medicinae Doctor Et Chirurgiae Magister atque Pauperibus Medicus». («Памяти моего отца Дэвида, доктора медицины и магистра хирургии». - Прим. перев. )
Такое описание его отца ярко иллюстрирует жизненные принципы Эрика.
Его всегдашней целью было лечение пациентов. Поэтому у него вызывали отвращение разного рода заседания и определенная литература, цель которых, как он чувствовал, была в оправдании post hoc (плохо сделанной работы).
Он гордился честной бедностью своего отца, который был сельским врачом. Берн плохо относился к людям, главная цель которых - сделать деньги, а если он чувствовал, что кто-то из его коллег изучает транзактный анализ, чтобы получить доход, то не стеснялся критиковать и бранить его. Он часто проверял нас в Сан-Франциско, оглашая заявки на чтение лекций по транзактному анализу, за которое не предусматривалось никакого вознаграждения, и смотрел, кто из слушателей соглашался, а кто - нет. Он вел подробный счет деньгам и прощал себе излишние траты (например лишних 25 центов, отданных за соус в ресторане, или стоимость новой рубашки) только после того, как бухгалтер убеждал его, что, если бы Эрик не потратил свои деньги сам, их потратил бы Дядя Сэм. Мне кажется, он хотел жить в достойной бедности (ключевое слово - «достойной»).
Он был очень привержен врачебному братству и стремился поддерживать связи с врачебной традицией. Я думаю, что именно эта приверженность удерживала его Родителя от критики медицины и психиатрии в целом, в то время как Ребенок Берна вовсю потешался над методами отдельных членов медицинского сообщества.
С другой стороны, он был просто дьявольски остер на язык. Чувство юмора проявлялось во всем, что он писал, например в названии статьи «Кто такой Кондом?» (правильно, кондом - это контрацептивное средство).
Он был застенчивым. Его очень привлекала жизнерадостная часть людей (Естественный Ребенок). Его теория была основана преимущественно на интуитивных догадках его детской части (см. гл. 1). Он обожал детей и Детей во взрослых, но застенчивость не позволяла ему выражать собственную детскую часть, если ситуация не была совершенно безопасной. Он любил получать поглаживания от других людей и, как мне кажется, именно для этого устраивал вечеринки после семинаров. Берн любил вечеринки с танцами и играми, и его всегда раздражали люди, которые нарушали общее веселье своим скучным, «взрослым» поведением.
Однако он редко позволял себе повеселиться или пообщаться исключительно ради удовольствия: вся его жизнь вращалась вокруг работы, и в ней было всего две цели - писать книги и лечить людей.
Эрику принадлежит идея, что жизнь людей заранее распланирована и записана в «сценарии», которому они следуют не отклоняясь. Мне кажется, в сценарии жизни Эрика Берна было записано, что он умрет от болезни сердца, не дожив до старости. Еще мне кажется, что его трагическая кончина стала результатом строгих ограничений, которые он бессознательно налагал на свою способность любить и принимать любовь других людей, с одной стороны, и строгого предписания, говорящего о том, что он должен быть абсолютно независимым, - с другой.
Я знаю, что, будь он жив, он поспорил бы со мной. Он напомнил бы мне, что сердечные заболевания являются наследственными и что он делал для своего здоровья все, что мог: соблюдал диету, вел активный образ жизни и регулярно проходил медицинское обследование. С медицинской точки зрения он заботился о своем сердце безупречно, но тем не менее когда я думаю о его смерти, то чувствую, что она стала для меня одновременно неожиданной и абсолютно закономерной. Какая-то часть меня - и его тоже - отлично знала, что с ним случится и когда. Другая его часть притворялась, что не знает, и какая-то часть меня добровольно потакала этой иллюзии.
Берн очень интересовался вопросом предопределенности жизненного срока. Несколько раз он разбирал перед нами случаи людей, которые собирались жить только до сорока или до шестидесяти лет, и, в чем можно легко убедиться, заглянув в его последнюю книгу «Люди, которые играют в игры», его особенно притягивали истории жизни людей, страдавших сердечными заболеваниями. Если почитать его книги повнимательнее, можно заметить, что он почти не упоминает других причин смерти, кроме болезни сердца. Причина его пристрастности стала мне понятна, когда он умер; я узнал, что его отец скончался, когда Эрику было одиннадцать лет, а его мать - в шестьдесят лет от коронаротромбоза. Сам Берн прожил немного меньше, чем его мать, и умер от того же самого недуга. Я уверен, что его жизненный сценарий был ограничен во времени и он прожил его точно так, как запланировал. Он никогда не демонстрировал, что осознает свое намерение прожить только до шестидесяти, но теперь, когда я оглядываюсь назад и вспоминаю все, что он говорил о коронарной болезни и об ограниченных во времени сценариях, то понимаю, что он следовал своему сценарию и знал это. Когда мы праздновали его шестидесятый день рождения, он объявил нам, что завершил обе книги, которые планировал написать, и теперь готов наслаждаться жизнью. Однако две недели спустя он сообщил своим друзьям и коллегам, что начинает новую книгу - учебник психиатрии для студентов-медиков. Он не давал себе спуску до последней секунды жизни, когда, как и было запланировано, его сердце остановилось.
Конечно, в определенном отношении Эрик заботился о своем сердце, но в других отношениях, не связанных с медициной, он ничего для него не делал. Мне становится очень грустно, когда я думаю, сколько любви было обращено к нему и как мало любви он допускал до своего сердца. Все близкие отношения Эрика быстро заканчивались и не давали ему душевного тепла, которого он желал и в котором нуждался. Он защищал свое одиночество и не позволял помогать себе в работе. Когда я думаю об этом, я злюсь на него так же, как рассердился бы на близкого человека, который бы подрывал свое здоровье, например пил или курил. Берн заботился о своем здоровье в физическом отношении (за исключением того, что он всю жизнь курил трубку), но не в эмоциональном.
Он не позволял заботиться; он вежливо выслушивал человека, если тот критиковал его замкнутость, индивидуализм и соперничество, но потом все равно поступал по-своему. Когда он нуждался в терапевтической помощи, он предпочитал традиционный психоанализ групповой транзактной психотерапии.
Он вел себя абсолютно пассивно по отношению к своей потребности в любви и человеческом контакте. В то же время он создал ряд важных концепций, касающихся любви. Его теория говорила о взаимодействии и проявлениях любви у людей. Он очень интересовался вопросом отношений. Он создал понятие о «поглаживании», которое интерпретировал как «единицу признания», но его же можно понимать и как единицу любви. В последние годы жизни он написал книги «Секс в человеческой любви» и «Люди, которые играют в игры». На мой взгляд, обе эти работы были попыткой прорваться через собственные сценарные ограничения. К сожалению, и я, и он слишком поздно достигли настоящего понимания роли поглаживаний и сценариев, чтобы это могло принести ему личную пользу.
В период зарождения транзактного анализа (1955–1965) Берн неявно осуждал наши попытки исследовать поглаживания, близость и сценарии. По Берну, близость была одним из способов, которым структурируют свое время человеческие существа, и он определял ее как ситуацию, в которой отсутствуют отчужденность, ритуалы, игры, времяпрепровождение и деятельность. Берн определял близость методом исключения и поэтому, по сути, не определил ее никак. Более того, Берн был уверен, что близость недостижима и что человек может считать себя счастливчиком, если в течение жизни испытал хотя бы пятнадцать минут близости. Когда кармельский семинар по транзактному анализу перешел к исследованию поглаживаний и начал использовать техники, включающие в себя физический контакт, Берн был встревожен и тут же публично заявил, что «всякий, кто прикасается к своим пациентам, не является транзактным аналитиком».
Запрет Берна на прикосновение в групповой работе имел под собой разумную основу. Он боялся, что транзактный анализ может превратиться, как это уже произошло с гештальт-терапией, в разновидность терапии, позволяющей психотерапевту вовлекаться в отношения с пациентами, носящие сексуальный оттенок. Берн сознательно относился к своей работе и чувствовал - использование физического контакта может навредить эффективности терапии и испортить репутацию транзактного анализа. Именно поэтому он запрещал своим ученикам касаться людей, с которыми они работали. И хотя целью запрета не было ограничение поглаживаний между людьми, он тем не менее привел именно к такому последствию. Сам Берн не умел ни просить о поглаживаниях, ни принимать их. Интересно заметить, что из 2000 страниц, которые он написал о транзактном анализе, поглаживаниям посвящено не больше 25.
По отношению к сценариям он вел себя сходным образом. Его разборы анализа сценариев были непонятными для нас. Сценарный анализ казался запутанным, глубоким, почти магическим процессом, который был способен понять только Эрик Берн. Нам, молодым, ориентированным на практику и склонным к групповым формам работы терапевтам, он казался слишком сложным и скучным. Берн использовал для сценарного анализа техники, заимствованные из психоанализа, и он говорил об анализе сценариев, в отличие от всех других аспектов своей теории, на психоаналитическом жаргоне. Сценарии для Берна были связаны с феноменом бессознательной компульсии, и работать с ними следовало в ходе индивидуальной терапии.
Мне кажется, что у Эрика Берна, как и у многих великих первооткрывателей, был сценарий, ограничивавший полное исследование феноменов, которые его интересовали, а именно: сценарные запреты Берна не позволяли ему принимать поглаживания от других людей, ограничивали его научные исследования сценариев и поглаживаний и воздвигли границу между ним и его учениками. Эти ограничения имели для него ряд последствий: он не осознавал до конца собственный сценарий и, следовательно, не мог его изменить. Запрет на поглаживания, который поддерживал его сценарий, и разрушал его сердце, оставался незатронутым. Расстояние, на котором он держал тех, кого любил, и тех, кто любил его, и, в частности, меня, не давало другим людям возможности его поддержать. Я чувствую, что он мог бы прожить дольше - до девяноста девяти лет, может быть.
Смерть Берна оказалась неожиданной. Во вторник, 23 июня 1970 года, он участвовал в дискуссии на еженедельном семинаре по транзактному анализу в Сан-Франциско. Мы договорились, что на следующем семинаре я представлю свою статью «Экономия поглаживаний» Эрик выглядел здоровым и счастливым.
Во вторник, 30 июня, придя на семинар, я узнал, что Эрик слег с сердечным приступом. Я навестил его в больнице: ему было уже лучше. Второй приступ убил его в среду, 15 июля.
Я не могу объективно говорить о смерти Берна; когда я думаю об этом сейчас, три года спустя после того, как он скончался, слезы навертываются мне на глаза. Тем не менее я решил высказать то, что я думал.
Из книги Люди, которые играют в игры [книга 2] автора Берн ЭрикКак возникает сценарий...Седовласый человек сидит за фортепиано. Его пальцы бегут по клавишам. Медленно разворачивается свиток с нотными знаками, нанесенными еще его предками. Музыка, то печальная, то бравурная, то беспорядочная, то стройная и мелодичная, захватывает
Из книги Воспитание без крика и истерик. Простые решения сложных проблем автораКак проверить сценарий? Если сценарий диагностирован, то должны обнаружиться некоторые его элементы, поддающиеся количественной трактовки. Например, сколько процентов женщин носят красные шапочки? У многих ли мальчиков-с-пальчиков в самом деле длинные белокурые волосы?
Из книги Как вырастить Личность. Воспитание без крика и истерик автора Сурженко Леонид Анатольевич4 Уроки Эрика, или Игры, которые играют людьми Исследователи решили, что человек зрелый руководствуется серьезными побуждениями, ребенок – импульсивен; взрослый – логичен, ребенок во власти прихоти воображения; у взрослого есть характер и определенный моральный облик,
Из книги Люди, которые играют в игры [Психология человеческой судьбы] автора Берн ЭрикГлава 4 Уроки Эрика, или Игры, которые играют людьми Исследователи решили, что человек зрелый руковод ствуется серьезными побуждениями, ребенок – импульсивен; взрослый – логичен, ребенок во власти прихоти воображения; у взрослого есть характер и определенный моральный
Из книги Гипнотерапия. Практическое руководство автора Карл ГельмутЖ. Сценарий и антисценарий Юность - это период, когда человек колеблется, когда он мечется между сценарием и антисценарием. Он старается следовать предписаниям родителей, потом восстает против них, но обнаруживает, что все-таки следует программе сценария. Он видит тщету
Из книги Зависимость. Семейная болезнь автора Москаленко Валентина ДмитриевнаСценарий 10.5. Магниты Давай посмотрим, насколько хорошо ты можешь представить кое-что. Вытяни руки перед собой (установить руки ребенка так, чтобы они находились в вытянутом положении, и расстояние между ладонями, обращенными друг к другу, составляло приблизительно один
Из книги Брак и его альтернативы [Позитивная психология семейных отношений] автора Роджерс Карл Р.Сценарий ее жизни С ранних лет Света видела, как поступала в таких случаях мама. На вечеринке она и сделала то, что делала мама. Уроки, выученные в детстве, превращаются в автоматические реакции. Мужчина не может о себе позаботиться – это сигнал к тому, чтобы такие женщины,
Из книги Почему одни семьи счастливы, а другие нет [Как преодолеть разногласия и приумножить любовь] автора Аксюта МаксимРевность Эрика Эрик. Разрешите мне теперь рассказать о наших внебрачных отношениях. У меня всегда были любовницы. Правда, я никогда не чувствовал, что мне непременно нужны любовницы. Я не имею склонности высматривать себе женщин для любовных дел. Но на протяжении
Из книги Драматерапия автора Валента МиланВыводы Эрика Эрик. Карл, я хотел сказать кое-что еще по поводу нашего брака. Это будет своеобразный анализ или оценка отношений. Мы оба, в известной степени, свободны от условностей в социальной и интеллектуальной сфере, особенно если учесть наше окружение и образ жизни.
Из книги Большая психологическая игра, или Игра не в тренинге автора Телегина Ирина ОлеговнаЭрика и Артем ЗнакомствоЭрика. Меня зовут Эрика, я из Латвии. Два года назад я познакомилась со своим мужем, это было в туристической поездке, в Израиле, на горе Мирон. Очень красивая встреча была, на самом деле – неожиданная, и через полгода мы расписались. Я переехала к
Из книги автора3.1.3. Понятие игры в трансакционном анализе Эрика Берна Выражение «игра» является ключевым и для трансакционного анализа – психотерапевтического направления, которое берет начало в трудах калифорнийского психиатра Эрика Берна. Однако следует иметь в виду, что в его
Из книги автораСценарий Общее время игры – 4–5 ч.
Из книги автораСценарий Первый этап: настрой (организационная часть) – 15 мин 1. Знакомство: представление ведущих, представление участников, формулирование ожиданий.2. Постановка цели игры.3. Особенности и правила БПИ.4. Обсуждение: какие есть вопросы, переживания.5. Принятие правил
Из книги автораСценарий Первый этап: настрой участников – 30 мин 1. Какие социальные проблемы актуальны для вас? Затрагивают вас? (участники пишут на ватмане).2. Каждый выбирает одну, наиболее актуальную, называет, ведущий ставит галочки рядом. Таким образом происходит ранжирование,
Из книги автораСценарий Первый этап: настрой – 30–45 мин 1. Притча, работа с афоризмами, осмысление материала. Ведущий рассказывает, что психологическая игра называется «Перекресток». Вопрос к группе: «С чем это у вас ассоциируется? Какие образы возникают?» Группа выходит на тему выбора,
Из книги автораСценарий Первый этап: настрой – 45–60 мин Будучи объемным и довольно сложным, этот этап следует проводить с перерывом перед самой игрой. Перерыв может быть от получаса до суток, но не более.«Медитация-визуализация»Закройте глаза, сядьте поудобнее… (далее классические