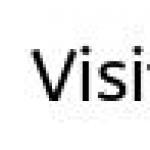Григорий Котовский - один из легендарных командиров Гражданской войны, чье имя и гибель окутаны до сих пор тайной. Наш разговор - с сыном замечательного командарма Григорием Григорьевичем Котовским, ведущим научным сотрудником Института востоковедения РАН, крупнейшим индологом России.
- Григорий Григорьевич, как так получилось, что сын героя Гражданской войны стал индологом, вместо того чтобы пойти по кавалерийским стопам отца?
Как ни странно, меня с детства, которое прошло в Киеве, никогда не влекло к профессии военного. Может быть, это определялось тем, что меня и мою младшую сестру [Елену, первый муж - Вадим Ильич Пащенко, в 1964 году - заместитель декана факультета иностранных языков по французскому языку, заслуженный альпинист СССР], которая родилась в день похорон отца, воспитывали мама и ее сестра тетя Лиза. А может быть, это было заложено в моей внутренней организации, в самом генотипе.
С раннего детства, которое прошло в Киеве, экскурсии в Киево-Печерскую лавру, Софийский собор, музеи изобразительного искусства оформили мою еще полуосознанную тягу к историческим предметам. Окончив школу, я поступил на истфак МГУ. Но началась война, и на второй курс я пришел только после ее окончания. В это время открылось в МГУ отделение Востока. Все языковые группы были уже сформированы, и меня могли принять только в индийскую группу с изучением санскрита. Так я попал в индологию - чисто случайно.
Правда, разочароваться мне в своем выборе не пришлось. В значительной степени это объяснялось тем, что моим научным руководителем на старших курсах был выдающийся востоковед, основатель советской индологии Игорь Михайлович Рейснер, происходивший, кстати, из замечательной семьи (его отец, профессор Михаил Андреевич Рейснер, был автором первой Конституции РСФСР).
Большое влияние оказали на меня еще два видных ученых-педагога, у которых я занимался: историк-медиевист Моисей Менделеевич Смирин, научивший меня работать с источниками средневекового периода, и крупный специалист по истории России Константин Васильевич Базилевич.
Я не жалею, что выбрал индологию. Индия - это субконтинент, целый мир, изумительная страна, величайшая цивилизация, интереснейший объект обществоведческих исследований... Не случайно в современной американской социологии и экономике специализация по Индии занимает одно из ведущих мест.
- Извините за дилетантский вопрос: что представляет собой дисциплина "Востоковедение"?
В общем-то такой науки нет. Востоковедение - комплекс общественных наук, изучающих страны Востока, в котором соединились история, экономика, социология, философия, филология, культурология... Что касается меня, то мои работы по истории Индии охватывают во временном отношении период от XVII века до нашего времени и посвящены в первую очередь социально-экономической истории и национально-экономическому движению.
Но большая часть работ - это исследования аграрного строя и социально-классовой организации индийского общества в XX столетии. Есть также работы по проблемам культуры, историографии, библиографии... К сожалению, в отличие от многих своих товарищей, посвятивших себя только научной работе, у меня очень много времени и сил ушло на научно-организационную деятельность, а также работу по линии различных научных международных организаций (например, с 1964 по 1986 год я представлял СССР в исполкоме Международной ассоциации историков-экономистов).
Это отнимало много времени, хотя оказалось и полезным: во-первых, я познакомился с большим числом крупных экономистов-историков Западной Европы, США и Японии; во-вторых, у меня завязалась личная дружба с двумя крупнейшими величинами европейской науки - крупнейшим французским историком Фернаном Броделем и центральной фигурой кембриджской исторической школы Майклом (а фактически - Михаилом Михайловичем!) Постаном , издавшим знаменитую кембриджскую "Экономическую историю Европы".
- Говорят, Майкл Постан - человек удивительной судьбы...
Мы познакомились с ним весьма примечательно: в 1964 году я выступал с докладом на Четвертом Международном конгрессе экономической истории, проходившем в университете штата Индиана, расположенном в маленьком университетском городке Блумингтоне. После выступления началось обсуждение, которое вел выдающийся американский экономист Саймон Кузнец, с которым я познакомился в 1956 году. Один из выступивших - пожилой краснощекий лысый человек с внешностью классического Панча из английских юмористических журналов - сел на свое место впереди меня, обернулся ко мне и на великолепном русском спросил: "А вы не сын знаменитого бессарабского разбойника Котовского?"
Я ответил: "Да, сын!" Он сказал: "Видите, как тесен мир! Мой отец в то время был адвокатом в Кишиневе и, когда вашего отца первый раз арестовали, возглавил общественный комитет его защиты..." Так мы познакомились с Постаном, который в 1970 году благодаря усилиям академика В.А. Виноградова и моим первый раз посетил родину.
Вообще-то, он должен был приехать в Россию еще в 1943 году, когда являлся одним из советников Черчилля. Но уже по дороге в Москву наш МИД учел его "белогвардейское происхождение" и отказал ему в визе. В 1970 году, когда Майкл Постан приехал в Ленинград, на Пятый Международный конгресс экономической истории, мы даже планировали устроить ему поездку на родину - в Кишинев.
Его отец был крупным кишиневским адвокатом. В результате его романа с секретарем-машинисткой в генеральном консульстве Великобритании в Одессе родился Майкл Постан, который по английским законам стал считаться подданным Великобритании. В 1918 году его отец и мать прибыли в Англию.
Кстати, неординарное рождение его вызвало много лет спустя головную боль у бюрократии Кембриджского университета: по английским законам, преподаватель университета, достигший 65 лет, должен уходить в отставку. И лишь с помощью сложных расчетов чиновники вычислили дату рождения Постана.
Но и пребывая на пенсии, он оказывал большое влияние на научную жизнь Англии. Для меня очень ценны его суждения о советской исторической школе. Так, в начале 90-х, когда после Третьей Буржуазной революции в России (так я ее называю) среди группы наших обществоведов начался крестовый поход против марксизма как научного инструментария, я в дискуссиях с ними приводил слова Постана, ярого антикоммуниста и классического представителя английской исторической школы. "Сила вас, марксистов, - говорил он, - заключается в том, что у вас системный подход к исследованию общества на том или ином этапе исторического развития..."
Ну, а просмотрев подаренную им книгу, я увидел, что на Западе можно быть ярым антикоммунистом, но в области методологии - столь же ярым марксистом! Политическая ориентация и научная концепция исторического развития могут быть и не связаны между собой.
- Григорий Григорьевич, в годы Третьей Буржуазной революции развернулась кампания ниспровергательства, которая затронула и вашего отца. С чем вы связываете это явление?
Тенденция эта возникла поначалу в Молдавии в 1989-1990 годах. Дело в том, что для молдавских правых радикалов-националистов Котовский был не только символом Октябрьской революции, но и, что не менее важно, - неразрывности судеб Молдавии и России в XX столетии. Выпады против отца появлялись и на страницах некоторых московских изданий. Это, конечно, было связано с тем, что Котовский являлся одной из самых популярных фигур в советской истории, а генеральной задачей новой идеологии была полная дискредитация советского общества.
Я сам критически оцениваю советский опыт, но решительно против антинаучного очернительства. Ясней ясного, что "развенчивание" Котовского было продиктовано чисто социально-политическими целями. Лучшим ответом клеветникам стали новые исследования о жизни и деятельности отца. И в постсоветский период к нему не ослабел интерес как к необыкновенной личности.
Характерно, что Александр Солженицын написал рассказ, посвященный одной из выдающихся военных операций отца. Очень хорошо, что издательство "Молодая гвардия" выпустило несколько лет назад вышедшую на Западе в 30-х годах книгу очерков о советских военачальниках Романа Гуля, белоэмигранта, убежденного противника советской власти.
В своем превосходном очерке о Котовском, написанном еще в начале 30-х, он просто восхищается им. Из новых работ о Котовском я бы назвал в первую очередь обстоятельный очерк о Котовском Н.Зеньковича и недавно вышедшую капитальную биографию Котовского, написанную С.Буриным. Конечно, и в этих, и в других работах об отце, вышедших в последние 10-15 лет, есть и неточности, и спорные оценки. Но важно то, что названные выше авторы воссоздали в общем правдивую историю жизни отца, дали объективную оценку ему как исторической личности.
- Но ведь дореволюционный период жизни Котовского, когда он грабил богатых и прослыл русским Робин Гудом, в самом деле можно свести к уголовному знаменателю.
Теоретически легче всего все свести к простой уголовщине: мол, поначалу был простым уголовником, а потом приспособился к Советской власти. Правда, на пути разработчиков этой версии есть определенные трудности. Даже в оценках царской администрации встречаются признания, что Котовский вступил на путь грабежа и сколотил свою дружину отнюдь не ради простого обогащения.
Накоплено достаточно много документальных фактов, доказывающих, что основной его задачей была раздача награбленного бедным. В этом смысле отец, конечно, очень неординарный человек. Общая беда исследователей - и тех, кто писал об отце в целом положительно, и тех, кто пытается его дискредитировать, - в том, что им не понятна мотивация социальной справедливости.
Это настолько для них чуждо, нередко вообще не учитывается. А ведь моя покойная мама рассказывала, что отец в разговоре с ней однажды обмолвился: "Моим героем с юности был Дубровский".
- Кажется, с Дубровским вашего отца роднило и дворянское происхождение?
По линии своего отца Григорий Котовский происходил из старинного польского аристократического рода, владевшего имением в Каменец-Подольской губернии.
Его дед за связи с участниками польского национального движения был досрочно уволен в отставку. Позднее он разорился, и мой дед, инженер-механик по образованию, вынужден был переехать в Бессарабию и перейти в мещанское сословие.
- И все-таки, согласитесь, разбойничья деятельность Котовского (как, впрочем, и Сталина, и Камо) подпадает под уголовную категорию.
Никогда не соглашусь. Предположим, отец и в самом деле был просто уголовником. Но как тогда объяснить такой факт: после того как он бежал с каторги из Сибири в Россию, он устроился управляющим крупного имения по подложным документам. Казалось бы, получил хорошее место с хорошим жалованьем. Блестяще справлялся со своими обязанностями. Что еще нужно?
Это была "экспроприация экспроприаторов". Помнится, в 1940 году, когда состоялось воссоединение Бессарабии с Россией, органы НКВД устроили нам с мамой и сестрой поездку в Бессарабию, сперва в Кишинев, а потом в местечко Ганчешты, где родился и провел детство отец. Мы приехали как раз на торжества открытия первого в Молдавии памятника отцу работы скульптора Б.Н. Иванова. Этот памятник был просто отлит из бетона. Отец был изображен сидящим, опирающимся на шашку. Все знали, что приедет семья Котовских.
В старом "ЗИСе" мы подъехали к центральной площади Ганчешты. Сейчас это уже процветающий городок, а в то время типичное захолустное румынское село. Ко мне подошли несколько местных стариков, стали целовать мне руки, говорили: "Мне ваш отец лошадь дал, забрал у богатых.., а мне корову..." и т.д. Эти старики были живыми свидетелями деятельности отца в 1915-1916 годах. Но главное не это, а жизнь отца после Революции. Если бы Котовский действительно был человеком с уголовными наклонностями, то и после Революции он продолжал бы грабить для собственного обогащения. Но Котовский был уникумом, человеком, у которого вообще не было личной собственности.
- Судя по книгам и статьям о вашем отце, он был кумиром женщин.
После оглашения решения суда, приговорившего его к повешению, в ожидании казни (а Одесский военно-окружной суд находился в подчинении командующего Юго-Западным фронтом прославленного генерала А.А. Брусилова) он написал трогательное письмо супруге генерала Брусилова, к которому приложил автобиографию, где рассказывал о тяжелой жизни и единственной цели в ней - борьбе за справедливость.
И Брусилова сперва упросила одесского губернатора и генерал-губернатора отложить казнь Котовского, а затем убедила мужа воспользоваться своим правом командующего и заменить смертную казнь Котовскому на бессрочную каторгу...
- А как ваш отец познакомился с вашей мамой?
С мамой они познакомились осенью 1918 года. Это была романтическая история, которая в значительной степени искажена в книгах об отце. Поэтому рассказываю ее со слов мамы, так сказать, из первоисточника. Ольга Петровна тоже была незаурядным человеком. Она происходит из волжских крестьян: ее отец в Сызрани был прасолом - покупал, нагуливал и перепродавал овец.
Их родственники владели местным кожевенным заводом. Родители у моей матери умерли рано. Начальница местной гимназии взяла мою мать в учебу и казенный кошт. Вместе со своей сестрой Елизаветой они купили в рассрочку швейную зингеровскую машину, которая, кстати, дожила до наших дней, тетка что-то шила, мама вышивала. На это жили.
После окончания гимназии мама устроилась корректором в местную - социал-демократическую - газету. Здесь работала сестра Ленина - Анна Ильинична Ульянова, а издавал газету ее супруг Марк Елизаров. Марк Тимофеевич за мамой ухаживал, и Анна Ильинична ревновала ее.
Мама была бесприданницей, и ей надо было устраивать жизнь. В 18 лет ее познакомили с земским врачом по фамилии Шакин из города Кузнецка, что недалеко от Сызрани. Он ею увлекся, хотя был старше ее чуть ли не на 30 лет, и они очень хорошо прожили два года. Детей не было. Шакин заболел раком. Зная об этом и будучи благородным человеком, он повез мать сначала в Петербург, чтобы она поступила на медицинский факультет университета к Бехтереву. Но там что-то не вышло, и они поехали в Москву. В 1914 году мама поступает на медицинский факультет Московского университета.
Вскоре Шакин умирает, мать с теткой продают дом в Кузнецке и кладут деньги в банк, который в 1917 году лопнул. Тетя Лиза работала в то время кастеляншей в Сызранской больнице, где после 1917 года главврачом стал брат Ленина Дмитрий Ульянов. Тетка о нем говорила плохо. Ленина она боготворила, а вот его брата считала человеком весьма посредственным, да и изрядно выпивавшим.
Мама продолжала учебу в Москве и после революции поступила работать в отдел металлов ВСНХ техническим работником. Мама рассказывала, что в то время Москва спасалась от голода семечками: вся столица утопала в семечках, которые были важным источником калорий. Мама вступила в партию в 1918 году. Она была любимой ученицей великого русского хирурга Н.Н. Бурденко, и, когда заканчивала учебу, он хотел оставить ее в своей ординатуре. Но как член партии, она добровольцем поехала на Южный фронт.
В поезде она встретилась с отцом, который догонял бригаду после перенесенного тифа. В это страшное время, конечно, каждая женщина хотела прислониться к плечу мужчины. Мама впоследствии рассказывала со слов отца, почему она ему понравилась: он увидел в ней облик своей матери, которую потерял, когда ему было три года. Начался роман. Котовский предложил поехать к нему в бригаду. Врачей у него не было, и он назначил ее сразу бригадным врачом. Это было в конце 1918 г. Когда они поженились, бойцы преподнесли им в подарок кровать. Эта кровать (сохранившаяся до ВОВ в нашей квартире в Киеве) и была всем их семейным имуществом.
После Гражданской войны Котовский, вместе со своим штабом второго кавалерийского корпуса, которым он командовал, был дислоцирован в украинском городе Умань, где его с женой поселили в доме бывшего военного коменданта города, в котором продолжали проживать вдова коменданта и ее племянница. Их хотели выселить, но Котовский запретил это делать. Я хорошо помню, как двухлетним малышом бегал к этой генеральше, которая из-за болезни всегда лежала на кровати, помню и племянницу.
Вот так мы и жили в Умани до середины злосчастного 1925 года. Каждое утро Котовский пешком ходил в штаб, хотя были и машина, и штабные экипажи. Помнится, однажды разразился скандал - у него не оказалось сапог. Свои накануне он отдал какому-то беженцу из Бессарабии. (В 1981 году - в юбилейный год столетия со дня рождения отца - я написал в своей статье о Котовском, напечатанной в "Известиях" об этом случае. Но редакция этот эпизод вычеркнула - уж больно он контрастировал с жизнью нашей партийной элиты восьмидесятых.)
Мама в это время уже не работала врачом, вела хозяйство вместе с теткой, таскали продукты с рынка, весь день стояли у плиты, потому что за стол менее 20 человек не садилось: адъютант, ординарцы, конюхи, беженцы из Бессарабии и т.д. Однажды мама заикнулась: нельзя ли взять для поездки на рынок экипаж? Отец очень рассердился: "Не дай Бог, потом скажут, что мадам Котовская ездит на экипаже".
Разве эта маленькая деталь не говорит о его облике?! Более того, когда отца убили и мы переехали в Киев, у нас ничего из имущества не было, и командир корпуса Николай Николаевич Криворучко купил нам кое-какую мебелишку. Все ли военачальники так жили? Отнюдь нет.
- Ходят слухи о противостоянии Котовского и Якира. С чем это было связано?
Об этом очень мало написано. Отношения Котовского с Якиром были очень сложными. Оба они были из Бессарабии. Якир происходил из богатой еврейской семьи, которая держала аптеку. Жена Якира Сара Лазаревна была дочерью богатого торговца-оптовика, который владел магазинами готового платья в Одессе и Киеве. Продвижение Якира в годы Гражданской войны проходило с подачи Троцкого, с которым он был в родстве. Конечно, Якир способный и по-своему талантливый человек, но это родство сыграло очень важную роль.
У меня после пожара на даче, к сожалению, пропали документы, переданные мне старыми котовцами, о том, что даже свой первый орден Красного Знамени Якир получил незаконно. (Я, правда, эту инициативу котовцев не поддержал.)
Во время Гражданской войны произошло несколько столкновений отца с Якиром. Так, в 1919 году на крупной станции, кажется, Жмеринке, взбунтовался отряд из бывших галичан. Якир, оказавшийся в это время на станции, сел в штабной вагон и укатил. Тогда Котовский применил следующую тактику: его бригада начала быстрым аллюром мотаться по всем улочкам местечка, создавая впечатление огромного количества кавалерии. Небольшими силами он подавил это восстание, после чего на паровозе догнал Якира.
Отец был страшно вспыльчивым, взрывной натуры человек (по рассказам мамы, когда домой приходили командиры, они прежде всего спрашивали: "Как затылок у командира - красный или нет?"; если красный, то лучше было не подходить). Так вот, отец вскочил в вагон к Якиру, который сидел за письменным столом, и крикнул: "Трус! Зарублю!". И Якир спрятался под стол... Конечно, таких вещей не прощают.
Был и такой случай. В 1920 году во время войны с Польшей, с белополяками, во время их успешного наступления на Киев был взят город Белая Церковь, где была главная резиденция графов Браницких, крупнейших землевладельцев среди поляков в дореволюционной России. Вслед за войсками в Белую Церковь вернулись и Браницкие.
Во время контрнаступления Красной Армии бригаде Котовского было поручено взятие Белой Церкви. Блестяще проведя эту операцию, Котовский с бригадой пошел дальше, а в Белую Церковь подошел обоз бригады, в составе которой был перевязочный отряд мамы.
Как она вспоминала, Браницкие так поспешно покинули свой дворец, что в дворцовой столовой на столе оставались чашки с горячим кофе. Мама велела своим медицинским сестрам и санитарам пройти в гардеробную и разыскать постельное белье, чтобы нарезать из него своего рода перевязочный материал типа бинтов. Когда она вошла в графскую спальню, то обратила внимание на стоявший в комнате большой кожаный чемодан. Раскрыв его, мама увидела в нем кружева и перламутровую ложку в золотой оправе.
Вдруг позади нее раздался крик: "Не трогайте, это мое!" Мама обернулась и увидела жену Якира. "Пожалуйста, - сказала Ольга Петровна, - мне ничего не надо. Мне нужны только бинты". (Несколько позже ей рассказали, что при Якирше, как называли ее красноармейцы, находились двое агентов из фирмы ее отца, которые чемоданы с "трофеями" отвозили в Одессу.)
Через несколько дней разразился скандал: ЧК обнаружила, что было похищено столовое серебро Браницких. Сара Лазаревна указала на Котовскую, которая первая со своими санитарами побывала во дворце. Конечно, сразу стало очевидно, что это не так. Прошли годы. В 1924 году отец с матерью возвращались из Москвы в Умань через Харьков, где тогда жил Якир, находившийся в должности командующего украинским военным округом.
Котовские были приглашены Якиром на званый обед, во время которого мама обратила внимание на столовое серебро с вензелем "Б". "Так вот где серебро Браницких", - громко воскликнула она, всегда очень острая на язык. Воцарилось неловкое молчание, а Якир побагровел, как рак.
- Вы полагаете, что и эти эпизоды сыграли свою роль в смерти вашего отца?
Подобно этим было довольно много других эпизодов. Но если я отвечу на ваш вопрос положительно, то это будет означать, что я считаю Якира одним из организаторов убийства Котовского. Однако у меня нет никаких доказательств. Важно другое: что происходило в следующее пятилетие после убийства отца. Вначале все материалы затребовал к себе Фрунзе. Затем, через три месяца, М.В. Фрунзе погибает, и дело Котовского возвращается в Одессу.
По моему глубокому убеждению, одним из основных мотивов убийства отца оказалась его дружба с М.В. Фрунзе. Отец сблизился с ним в 1922 г. Исследователи жизни и деятельности отца связывают эту дружбу с их этнической принадлежностью - оба были полумолдаване. Но не это главное. В их жизненном пути было много общего: и происхождение, и образованность, и знание иностранных языков (кроме русского и молдавского отец немного говорил по-французски, по-немецки и по-еврейски), и тяжелые годы каторги и ссылки.
Смелые побеги, а главное - сходная мотивация вступления на путь борьбы с царизмом. Оба стали военными профессионалами в горниле гражданской войны. Постепенно Котовский становится правой рукой Фрунзе в армии. Как рассказывала мама, в 1925 году Фрунзе принял решение назначить отца своим заместителем (Наркомвоенмора и председателя Реввоенсовета). После отдыха в июле-августе в Чабанке, около Одессы, отец по возвращении в Умань должен был передать командование корпусом Н.Н. Криворучко и выехать в Москву. Но был убит в ночь накануне отъезда из Чабанки.
Напомню, что именно в эти 1924-1925 годы шла острая борьба за власть между группировками Сталина и Троцкого. После снятия последнего с поста Наркомвоенмора его позиции постепенно ослабели, но влияние и в армии, и в других властных структурах все еще было велико. Выдвижение Фрунзе внесло новый момент в эту борьбу. Смерть Котовского в один год с М.В. Фрунзе вызвала вздох облегчения не одного политика в Москве и в Харькове, тогдашней столице Украины.
Дело в том, что Котовский всегда был "трудно управляемым", постоянно демонстрирующим независимость в мыслях и поступках. Сохранилась его любопытная докладная записка Фрунзе, в которой он излагал план воссоединения Бессарабии с Россией еще в 1924 г. Он предлагал, что с одной из своих дивизий переправится через Днестр в Бессарабию, в течение нескольких дней разгромит румынские войска при поддержке большинства населения, которое восстанет при известии о появлении Котовского. Советское правительство при этом объявит Котовского вне закона, а он создаст в Бессарабии новую власть, которая выскажется за ее воссоединение с Россией.
Этот вполне реалистический план был отвергнут Фрунзе из-за опасности серьезных международных осложнений. В 1923 году Котовский выиграл крупнейшие после окончания Гражданской войны военные маневры, после чего на совещании в Москве высшего комсостава выступил с предложением преобразовать ядро кавалерии в автобронетанковые подразделения.
Однако этот план не был принят из-за противодействия Ворошилова и Буденного. (Кстати, в 1949 году С.М. Буденный во время встречи с матерью и мной в Кишиневе на праздновании 25-летия восстановления молдавской государственности признал правоту отца, поскольку этот план начал осуществляться накануне ВОВ.)
Короче говоря, Котовский в 1925 году входил в "первую пятерку" комсостава Красной Армии. Одновременно Котовский получил известность как блестящий хозяйственник-рыночник, восстановивший ряд промышленных предприятий и создавший на Правобережной Украине сеть сбытовой и потребительской кооперации, как основатель крупных сельскохозяйственных предприятий - коммун. Сохранилась высокая оценка Котовского как хозяйственника в записке Куйбышева, адресованной Кирову. А Дзержинский вообще предлагал демобилизовать Котовского и назначить начальником Трудфронта, организации по восстановлению промышленности.
И только Фрунзе отстоял Котовского в армии. При условии перевода Котовского в Москву тандем Фрунзе-Котовский мог бы изменить конфигурацию расстановки политических сил. Какая из двух основных соперничавших группировок могла быть причастна к убийству отца? Окончательный ответ дать сегодня нельзя. Но я склоняюсь к версии о "троцкистском следе".
Косвенным доказательством этого является судьба убийцы Котовского, которого "прикрыли силовые структуры" Харькова и Одессы. (Кстати, еще в 1926-м, уже после гибели Котовского, Сталин дал ему блестящую характеристику, ставшую известной биографам отца лишь после ВОВ, в которой он назвал его "храбрейшим среди скромных наших командиров и скромнейшим среди храбрых".
- Как произошло убийство Котовского?
В совхозе Чабанка, о котором я уже упоминал, накануне возвращения в Умань Котовский зашел в правление. Он дружил со специалистами совхоза, поскольку в юности сам закончил сельскохозяйственное училище. Возвращался домой поздно вечером. За несколько шагов до дома раздалось три выстрела. Когда мама выбежала из дома, она увидела отца, который лежал вниз лицом, широко раскинув руки и ноги. Пульса не было. Пуля попала в аорту, и смерть наступила мгновенно.
Когда Котовского внесли на веранду, объявился и сам убийца. Это был Мейер Зайдер. Упав перед мамой на колени, он бился в истерике: "Это я убил командира". Потом он скрылся и был схвачен только на рассвете. Кто такой Зайдер? До революции он содержал в Одессе публичный дом. Своей жене, бывшей проститутке, покупал драгоценности. Однажды во время оккупации Одессы, когда город был наводнен деникинцами, петлюровцами, поляками, французами, англичанами, он дал прибежище на ночь Котовскому, который в то время выполнял задания подпольного большевистского ревкома. В 1922 году, когда публичный дом был закрыт, Зайдер, памятуя обещание Котовского отблагодарить его сторицей за помощь в 1918-м, явился в Умань.
При помощи Котовского стал начальником охраны Перегоновского сахарного завода близ Умани. В злополучном августе 1925 года Зайдер приехал в Чабанку на машине, вызванной для переезда Котовского, якобы помочь семье командира собраться в дорогу... Следствие тянулось очень долго. Его вел некто Карлсон (или Каупельсон?), вскоре возглавивший НКВД Украины.
Только осенью 1926 года суд вынес приговор - убийце Котовского дали 10 лет (по иронии судьбы в тот же день этот же суд приговорил другого подсудимого за убийство зубного врача и ограбление - к расстрелу). В харьковской тюрьме бывшего содержателя публичного дома делают завклубом с правом свободного выхода.
Уже через два года после приговора его выпустили на свободу, и он стал работать сцепщиком железнодорожных вагонов. В 1930 году, когда 3-я Бессарабская кавалерийская дивизия праздновала юбилей и на праздник были приглашены ветераны-котовцы, они сказали маме, что Зайдер приговорен ими к смертной казни.
Мама возражала: Зайдера ни в коем случае нельзя убивать - он единственный свидетель смерти отца, тайна которой была не разгадана. Мама сообщила о намерении котовцев в особый отдел дивизии. Однако властями ничего не было предпринято. Зайдера задушили, его тело положили на рельсы, чтобы имитировать несчастный случай, но поезд опоздал. Главным организатором убийства Зайдера был котовец-одессит Вальдман, расстрелянный в 1939 году.
- Создается впечатление, что кому-то было очень нужно убрать всех свидетелей убийства Котовского?
В 1936 году матери дали понять, что убийство Котовского было политическим. И сообщил ей об этом маршал Тухачевский. Во время приема в честь участников съезда жен командного состава Красной Армии он подошел к ней и, пристально глядя в глаза, сказал, что в Варшаве вышла книга: ее автор утверждал, что Котовского убила Советская власть.
Кстати, в 1969 году я нашел эту книгу в библиотеке Варшавского университета, где в самом деле утверждалось, что Котовского убила Советская власть, поскольку он был человеком прямым и независимым и, обладая огромной популярностью в народе, мог повести за собой не только воинские подразделения, но и массы населения Правобережной Украины. (Действительно в ходе коллективизации по инициативе снизу только на Украине более 120 колхозов и совхозов были названы его именем, хотя официальная пропаганда практически забыла о нем.) В 1940 году мама по совету секретаря Союза писателей и члена ЦК ВКП(б) В.Ставского направила в ЦК письмо о пересмотре в судебном порядке дела об убийстве Котовского. Мама изложила многие обстоятельства гибели отца, но никакой реакции властей не последовало.
Имя отца оставалось популярным в народе, однако поначалу властями его память не очень-то культивировалась. В 1935 году Алексей Толстой задумал написать об отце сценарий фильма и книгу. Он вел переписку с матерью, и она послала ему несколько писем Котовского. Однако в дело вмешался Гарькавый, командовавший тогда Ленинградским военным округом и хорошо знавший отца по Гражданской войне.
Гарькавый представил Толстому Котовского как "рубаку" и посоветовал написать книгу об обороне Царицына. Так родился у Толстого "Хлеб". Остается добавить, что в Гражданскую Гарькавый служил комиссаром у Якира, а его жена была сестрой жены Якира. Я не оставляю надежды, что когда-нибудь в недрах архивов ФСБ будет найдена разгадка тайны убийства Котовского. Меня натолкнул на это разговор со знакомым военным следователем в 1946 году. Он вел дело захваченного в Маньчжурии атамана Семенова.
В конце 20-х годов этот следователь, проходивший в Киеве военную службу, бывал в нашей семье. От него я узнал, что в сверхсекретном архиве органов госбезопасности он познакомился с делом Котовского. Оказывается, что еще при жизни отца, в 20-е годы, в Москву о нем поступали агентурные сведения. Стало быть, Котовский был одним из тех людей, за которыми ЧК официально следило.
- Вы не опасаетесь, что у читателей может сложиться образ Котовского-антисемита? Смотрите, в его оппонентах и недоброжелателях - Зайдер, Троцкий, Якир...
Котовский был интернационалистом, в его бригаде были бойцы чуть ли не 14 национальностей - даже китайцы. Под командованием Котовского служило очень много евреев, в основном из Одессы и Бессарабии. Кстати, он дал "путевку в музыку" Н.Рахлину, впоследствии знаменитому режиссеру-симфонисту.
И Леонид Утесов знавал Котовского по Одессе и до конца жизни вспоминал о нем с теплотой. Котовский и антисемитизм - это несовместимые понятия. Отец был подлинным интернационалистом. Полуполяк-полумолдаванин, он в анкетах писался русским, но в то же время был великим патриотом Бессарабии и молдавского народа, основавшим в 1924 году автономную Молдавскую ССР, ныне Приднестровскую Молдавскую республику. Я не хотел бы, чтобы отец прослыл антисемитом.
Напротив, известно немало случаев и до революции, и после, когда отец останавливал еврейские погромы. Один крупный израильский экономист-аграрник в 60-е годы меня упрашивал приехать в Израиль, говорил, что меня там очень хорошо примут, поскольку Котовский спас очень много евреев. Но и от того факта, что главные недруги Котовского были евреями, не отмахнуться.
Ну и что? То время - это поистине золотой век подлинного интернационализма и утверждения дружбы народов бывшей царской России. Дело не в этнической принадлежности, а в связях с Троцким и его окружением. Конечно, все это очень сложно. Откроется ли вся правда до конца? Не знаю. Я сам склоняюсь к версии, что все это идет скорее по линии Троцкого, чем по линии Сталина.
Вряд ли Котовский был опасен группировке Сталин а, а Троцкий в 1925 году был еще очень силен. Хотя, может быть, я в этом не прав. Нельзя обвинять без документов. Одно совершенно ясно: убийство Котовского - одно из первых политических убийств в Советском Союзе, за которым последовали десятки и сотни подобных.
- Григорий Григорьевич, вам вот-вот исполнится 78 лет, но вы все еще ведете научную работу?
В этом нет ничего особенного: ведь я принадлежу к профессиональной и социальной группе "научные работники", члены которой, пока голова ясная, продолжают трудиться. В этом их привилегия по сравнению с пенсионерами - бывшими чиновниками. Если бы не это, то Российская академия наук уже перестала бы существовать.
- Вы продолжаете вести какую-то международную деятельность?
Разумеется, хотя и не так активно, как в прошлом. Во-первых, я продолжаю оставаться членом Исполкома Всемирной Федерации научных работников (Париж), которая по моей инициативе приняла обращения - в 1992 году к президенту Ельцину, в 1996-м к нему же, а также к премьеру Черномырдину и председателю Думы Селезневу, в которых выражала глубокую озабоченность положением российской науки и ученых. К сожалению, ответа мы так и не получили.
Во-вторых, я продолжаю руководить моим "детищем" - Российско-индийской комиссией по сотрудничеству в области общественных наук, которой в прошлом году исполнилось 25 лет.
В-третьих, я направляю сотрудничество с французскими индологами.
Эпоха русской революции породила массу ярких личностей, героев своего времени. Одни из них остались в истории, имена других со временем стали забываться. Но мало кто может стать в один ряд с Григорием Котовским , человеком, чья жизнь окутана легендами не менее, чем жизнь лихого лучника Робин Гуда. Собственно, «бессарабский Робин Гуд» — это одно из прозвищ Котовского.
Одни лепили из него героя, чурающегося крови и полного благородства, другие видели в нём мрачного убийцу, готового пойти на любые преступления из-за денег.
Котовский не был ни тем, ни другим — его яркая личность состояла из удивительной палитры красок, в которой находилось место всему.
Григорий Иванович Котовский родился в селе Ганчешты, в семье мещанина города Балта Подольской губернии. Кроме него, у родителей было ещё пять детей. Отец Котовского был обрусевшим православным поляком, мать — русской.
Отец имел дворянское происхождение, но вынужден был перейти в мещанское сословие. Дед Котовского участвовал в польском восстании и был репрессирован, после чего его родственники вынуждены были отказываться от своей родословной, дабы не разделить его участь.
Бунтарские гены деда рано проявились в Григории. Потеряв в два года мать, а в 16 лет отца, юноша, страдающий заиканием, оказался под опекой крестных отца и матери, людей обеспеченных.
Григория устроили в Кокорозенское агрономическое училище, оплатив весь пансион. В училище Григорий особенно тщательно изучал агрономию и немецкий язык, надеясь продолжить учебу в Германии.
Но в училище он познакомился и тесно сошелся с кружком эсеров, и быстро увлекся революционными идеями. С несправедливостью мира Григорий намеревался бороться прямыми действиями. Работая после окончания училища помощником управляющего в различных поместьях, он вставал на защиту наемных сельскохозяйственных рабочих.
Григорий Котовский, 1924 г. Фото: РИА Новости
«Производит впечатление вполне интеллигентного человека, умного и энергичного»
Стремление к отстаиванию социальной справедливости у Котовского органично совмещалось с желанием красиво одеваться, встречаться с роскошными женщинами, вести респектабельную жизнь. На такую жизнь нужны были средства, которые можно было добыть криминальным путем. Оправдание такой деятельности Котовский нашел быстро — те, кого он грабит, являются угнетателями простого народа, а, следовательно, его действия не более чем восстановление справедливости.
Преступная специальность Котовского называлась «шармер». Он обладал невероятным обаянием, легко входил в доверие, подчиняя собеседника своей воле. Григорий, еще не выйдя из юношеского возраста, разбивал сердца дам — силач, красавец, интеллектуал, он мог получить от слабого пола все, что хотел, не прибегая к насилию.
Сколотив собственную банду, Котовский своими дерзкими налетами завоевал славу главного разбойника Бессарабии. Значительно позже, накануне революции, в полицейских ориентировках его описывали так: «Прекрасно говорит по-русски, по-румынски и по-еврейски, а равно может изъясняться на немецком и чуть ли не на французском языках. Производит впечатление вполне интеллигентного человека, умного и энергичного. В обращении старается быть со всеми изящным, чем легко привлекает на свою сторону симпатии всех имеющих с ним общение. Выдавать он себя может за управляющего имениями, а то и помещика, машиниста, садовника, сотрудника какой-либо фирмы или предприятия, представителя по заготовке продуктов для армии и прочее. Старается заводить знакомства и сношения в соответствующем кругу... В разговоре заметно заикается. Одевается прилично и может разыгрывать настоящего джентльмена. Любит хорошо и изыскано питаться...»
Благородный разбойник
В 1904 году Котовского собирались призвать на русско-японскую войну, но он уклонился от призыва. Через год его задержали и отправили служить в 19-й Костромской пехотный полк, расквартированный в Житомире.
Дезертировавший из полка Котовский создал отряд, с которым занимался грабежом, жег имения помещиков и уничтожал долговые расписки. Такая тактика Робин Гуда давала ему поддержку местного населения, которое помогало отряду Котовского.
Власти вели охоту на Котовского, несколько раз его арестовывали, и, в конце концов, разбойник был осужден на 12 лет каторги. Пройдя несколько тюрем, Григорий был этапирован на каторгу в Нерчинск, где пробыл до 1913 года.
На каторге его поведение считали образцовым, и полагали, что Котовский попадет под амнистию в честь 300-летия дома Романовых . Но амнистии Григорий так и не дождался, и в очередной раз бежал, добравшись до Бессарабии.
Придя в себя, он вновь вернулся к старому ремеслу, сменив, правда, нападения на помещичьи дома на налеты на конторы и банки.
Громкие ограбления в условиях военного времени заставили власти активизировать деятельность по нейтрализации Котовского.

Группа котовцев кавалеристов. В центре - Г. И. Котовский. Фото: РИА Новости
От виселицы Котовского спасли письмо жене Брусилова и революция
В июне 1916 года он был ранен и арестован. Одесский военно-окружной суд приговорил Григория Котовского к смертной казни через повешение.
И здесь благородный разбойник снова продемонстрировал незаурядный ум. Поскольку Одесский военно-окружной суд находился в ведении командующего Юго-Западным фронтом Алексея Брусилова , Котовский стал писать покаянные письма жене генерала с просьбой помочь ему. Женщина вняла мольбам Котовского, и под ее влиянием Алексей Брусилов отстрочил казнь.
Помощь военачальника, разработавшего и осуществившего самую успешную , могла и не спасти Котовского, если бы вслед за ней не произошла Февральская революция. Падение монархии изменило отношение власти к Котовскому — теперь он рассматривался не как бандит, а как непримиримый «борец с режимом».
Вышедший на свободу весной 1917 года «бессарабский Робин Гуд» снова удивил, объявив, что отправится на фронт. Дезертировавший из царской армии, Котовский хотел служить новой России.
На Румынском фронте он успел получить Георгиевский крест за храбрость в бою, стать членом полкового комитета, а затем членом солдатского комитета 6-й армии.
Армия разваливалась, начиналась Гражданская война с множеством враждующих друг против друга политических сил. Котовский, сформировавший собственный отряд, ориентировался на левых эсеров, которые с октября 1917 по лето 1918 годов были главными союзниками большевиков.
«Полевой командир» Красной Армии
В начале 1918 года Григорий Котовский командовал кавалерийской группой в Тираспольском отряде вооружённых сил Одесской Советской Республики, воевавшими с румынскими интервентами, оккупировавшими Бессарабию.
После того, как Украину заняли германские войска, ликвидировавшие Одесскую республику, Котовский появился в Москве. После провала мятежа левых эсеров он примкнул к большевикам.
После ухода интервентов из Одессы Котовский получает от Одесского комиссариата назначение на пост главы военного комиссариата в Овидиополе. В июле 1919 года назначен командиром 2-й бригады 45-й стрелковой дивизии. Бригада была создана на основе сформированного в Приднестровье Приднестровского полка. После захвата Украины войсками Деникина , бригада Котовского в составе Южной группы войск 12-й армии совершает героический поход по тылам противника и выходит на территорию Советской России.
Григорий Котовский не был военачальником в полном смысле этого слова, его, в современной терминологии, скорее можно было бы назвать «полевым командиром». Но прекрасный кавалерист и отличный стрелок, Котовский пользовался непререкаемым авторитетом у подчиненных, что делало его отряд серьезной силой.
К концу 1920 года Котовский дослужился до должности командира 17-й кавалерийской дивизии Червонного казачества. В этом качестве он громил махновцев, петлюровцев, антоновцев и прочие банды, продолжавшие действовать на территории Советской России.
Прежний дореволюционный Котовский остался в прошлом. Теперь это был успешный красный командир, и легенды слагали о его военных, а не уголовных подвигах.

Фото: РИА Новости
За что убили героя?
Многие ветераны Гражданской войны не могли затем влиться в мирную жизнь страны, за которую воевали. Но это не было случаем Котовского: кавалер трех орденов Красного Знамени и почетного революционного оружия вписался в советскую действительность. Он обзавелся семьей, у него родились дети, он продолжал занимать важные посты в руководстве Красной Армии, в частности, являлся членом Реввоенсовета СССР.
Тем неожиданнее стала гибель Котовского — 6 августа 1925 года красный командир, отдыхавший с семьей на черноморском побережье в поселке Чабанка в 30 км от Одессы, был застрелен бывшим адъютантом Мишки Япончика Мейером Зайдером . Признав вину, Зайдер часто менял показания относительно мотива совершенного преступления, который так и остался неясным.
Убийца Котовского получил десять лет тюрьмы, однако, отсидев два года, был выпущен из тюрьмы за примерное поведение. Но в 1930 году Зайдер был убит — с ним расправились ветераны дивизии, которой командовал Котовский.
Хоронили Григория Котовского торжественно, с участием высших чинов Красной Армии. Местом похорон стал поселок Бирзула, райцентр входившей в состав Украины Молдавской АССР. Он удостоился особой чести — для него, как и для Ленина , был построен мавзолей.
В специально оборудованном помещении на небольшой глубине был установлен стеклянный саркофаг, в котором при определённой температуре и влажности сохранялось тело Котовского. Рядом с саркофагом, на атласных подушечках хранились три ордена Красного Знамени. А чуть поодаль, на специальном постаменте находилось почётное революционное оружие — инкрустированная кавалерийская шашка.
В 1934 году над подземной частью было воздвигнуто фундаментальное сооружение с небольшой трибуной и барельефными композициями на тему Гражданской войны. Так же, как и у мавзолея Ленина, здесь проводились парады и демонстрации, военные присяги и приём в пионеры. К телу Котовского был открыт доступ трудящимся. В 1935 году Бирзулу переименовали в Котовск.
Нет ему покоя
После смерти Котовский покоя не обрел. При отступлении советских войск в 1941 году эвакуировать тело революционной легенды не успели. Румынские войска, занявшие Котовск, разбили саркофаг Котовского и надругались над останками.
Мавзолей Котовского был восстановлен в 1965 году в уменьшенном виде. Тело Котовского хранится в закрытом цинковом гробу с небольшим окошком.
Волна декоммунизации, которая бушует сейчас на Украине, также не обошла Котовского стороной. Городу Котовску вернули историческое название Подольск, а в отношении мавзолея неоднократно озвучивались планы сноса. В апреле 2016 года вандалы проникли в мавзолей Котовского, как предполагается, с целью грабежа. Однако ценностей в мавзолее давно нет, кроме венка и портрета Григория Котовского.

Мавзолей в честь Григория Котовского в г. Котовск Одесской области, 2006 год.
Григорий Котовский советский военный и политический деятель, командир Красной Армии 24 июня 1881 - 6 августа 1925.
Григорий Иванович Котовский родился (12) 24 июня 1881 года в семье заводского механика в селе Ганчешты (ныне город Хынчешты в Молдавии). Отец Григория был обрусевшим православным поляком из старинного польского аристократического рода, владевшего имением в Каменец-Подольской губернии, мать – русской.
Уже в детстве биография Котовского отличалась от его ровесников. Рос он сильным, атлетическим мальчиком. А когда потерял мать (в 2 года) и отца (в 16), стал воспитываться крестной матерью Софией Шалль.
Григорий поступил в Кукурузенское сельскохозяйственное училище, где сблизился с эсерами. Окончив училище, работал в различных имениях губернии помощником управляющего. Но нигде не задерживался долго из-за своего крутого нрава, пристрастия к воровству. Так Котовский Григорий в биографии со временем стал известной личностью в бандитских кругах. В 1905 году был арестован за то, что не явился выполнять свои военные обязанности (в 1904 началась русско-японская война). Котовского отправили на фронт, но он дезертировал, а кроме этого собрал и начал руководить отрядом, который грабил помещиков, их имения, а все полученное раздавал бедным. Долго Григория не могли поймать, крестьяне оказывали его отряду поддержку, укрывая от жандармов.

1906 году Котовский Григорий Иванович в своей биографии все-таки был арестован. Он сбежал из тюрьмы, а через полгода был снова задержан. На этот раз его осудили на 12 лет каторги. Он пребывал в Сибири, затем в Орловском централе, Нерчинске (откуда в 1913 году бежал). Котовский вернулся в Бессарабию, где вскоре снова возглавил свою группу. Со временем размах деятельности группировки увеличился: с 1915 года начались налеты на банки, конторы, казначейства. После ограбления Бендерского казначейства был арестован, приговорен к смертной казни. Но хитрость и изворотливость Котовского снова позволили ему избежать наказания. Он был помещен в Одесскую тюрьму, откуда в 1917 году был освобожден.

В годы гражданской войны Григорий Котовский участвовал в обороне Петрограда, командовал кавалерийской бригадой, воюя в Бессарабии, на Украине и на советско-польском фронте. В 1921 году Котовский командовал кавалерийскими частями, в том числе подавляя восстания махновцев, антоновцев и петлюровцев.
Летом 1925 года нарком Фрунзе назначает Котовского своим заместителем. Вступить в должность Григорий Иванович не успел - он был застрелен Мейером Зайдером 6 августа 1925 года во время отдыха в совхозе Чебанка.

Легендарному комкору были устроены пышные похороны, сравнимые по помпезности с похоронами В.И. Ленина. Именем Котовского был назван город в Одесской области Украины, где Григорий Иванович был похоронен в специально выстроенном мавзолее.

Документы по делу об убийстве Котовского находятся в российских спецхранах под грифом «совершенно секретно». Убийца был осужден к 10 годам заключения, но через два года был освобождён «За примерное поведение». Осенью 1930 года Зайдер был убит тремя ветеранами дивизии Котовского. Есть основания полагать, что все компетентные органы знали о готовившемся убийстве Зайдера, но убийцы осуждены не были.
Смерть Котовского
В смерти Котовского есть странная закономерность. Люди, выходившие невредимыми из боев, из тучи опасностей и авантюр, чаще всего находят смерть от руки подосланного убийцы.
Да, популярного в народе Котовского сложно было ликвидировать официально - объявив, к примеру, врагом, предателем и т.п. Лет через десять послушный советский народ будет безропотно верить и не в такие чудеса, но тогда, в 1925 году, это еще не вошло в обиход. Поэтому власть предержащим мира того пришлось действовать по-иному.

Сегодня уже нет сомнений в том, что Григорий Иванович был уничтожен по приказу «сверху» и что гибель Котовского напрямую связана с его назначением на пост заместителя наркомвоенмора СССР.
Чтобы не слишком отклоняться в сторону, напомним читателям лишь основное: Фрунзе заставили сделать операцию по поводу язвы желудка, которая к тому времени практически зарубцевалась. В ходе этой операции Фрунзе дали усиленную дозу хлороформа (это при заведомо больном сердце!) от которой он и скончался прямо на операционном столе.

В этой цепи логических построений немаловажное значение приобретает и тот малоизвестный факт, что Фрунзе, назначенный в январе 1925 года председателем Реввоенсовета и наркомвоенмором СССР, внимательно следил за ходом следствия по делу об убийстве Котовского. Потрясенный нелепой смертью командира одного из самых крупных и важных соединений РККА, ставшего недавно членом Реввоенсовета СССР и приглашенного на пост заместителя наркомвоенмора, Фрунзе, по-видимому, заподозрил что-то неладное, затребовав в Москву все документы по делу Зайдера. Кто знает, как повернулось бы следствие, какие бы нити потянуло оно и какие бы имена были названы, если бы сам Фрунзе в октябре того же года не умер на операционном столе? После его смерти документы Зайдера вернули обратно в Одессу, и тамошним следователям уже никто не мог помешать выстраивать нужную кому-то легенду о гибели Котовского.

В память о Григории Ивановиче переименовались города. Его имя присваивалось заводам и фабрикам, колхозам и совхозам, пароходам, кавалерийской дивизии. Центральный совет Общества бессарабцев организовал сбор средств на создание авиаэскадрильи «Крылатый Котовский», однако денег удалось собрать всего лишь на один самолет: «Пусть крылатый Котовский будет не менее страшным для наших врагов, чем живой Котовский на своем коне».

Исполнилось 135 лет со дня рождения красного командира Григория Котовского
Как только ни называли Григория Котовского: Бессарабский Робин Гуд, Атаман ада, красный командир. Его боялись, любили и мифологизировали. После гибели в 1925 году тело забальзамировали. Но если о московском мавзолее Владимира Ленина знает едва ли не каждый, как и об усыпальнице выдающегося хирурга Николая Пирогова на окраине Винницы, то о мавзолее Григория Котовского мало кто слышал. Он находится в Одесской области, в бывшем Котовске (по-старому — Бирзула, а по совсем новому, с 12 мая этого года, — Подольск).
Настоящий возраст Григория Котовского стал известен лишь после его гибели, поскольку он постоянно искажал свою биографию. Начиная от происхождения — «из дворян», заканчивая несуществующей национальностью — «бессарабец». Котовский родился в 1881 году в местечке Ганчешты Кишиневского уезда, в семье механика винокуренного завода (принадлежавшего родовитому бессарабскому князю Манук-Бею). Его отец Иван Николаевич и мать Акулина Романовна воспитывали шестерых детей.
Написав за год до смерти собственную «краткую революционную биографию», Котовский вспоминал, что «был слабым мальчиком, нервным и впечатлительным. Страдая детскими страхами, часто ночью, сорвавшись с постели, бежал к матери, бледный и перепуганный, и ложился с ней. Пяти лет упал с крыши и с тех пор стал заикой. В ранних годах потерял мать…» С тех пор Гриша страдал эпилепсией, расстройствами психики, страхами. Заботу о воспитании мальчика взяла на себя его крестная мать София Шалль. А после смерти отца воспитанием озаботился и крестный — помещик Манук-Бей. С их помощью сирота поступил в Кишиневское реальное училище. Оказавшись без присмотра, Григорий прогуливал занятия и хулиганил, за что через три месяца был выгнан из училища. Крестный устроил подопечного в сельскохозяйственное училище (его Котовский окончил в 1900 году), снова оплатив весь пенсион. Главные науки — агрономия и немецкий язык.
Страстью подростка были спорт и чтение. Он представлял себя то знаменитым разбойником Шервудского леса Робин Гудом, то пиратом с черной бородой, то Тарзаном. Начал заниматься штангой и борьбой и очень быстро стал самым сильным среди сверстников. В нем проявился железный характер и склонность подчинять всех своей воле. Его начали уважать и бояться. «Григорий, — вспоминала сестра Котовского София, — избивал всех, кто осмеливался насмехаться над его заиканием».
Чтобы получить диплом училища, ему было необходимо пройти полугодовую практику. В имении помещика Скоповского Котовский стал помощником управляющего. Владевший русским, молдавским, еврейским, немецким языками красавчик-практикант понравился молодой жене хозяина, и вскоре они начали тайно встречаться. Узнав об этом, обманутый Скоповский, естественно, изгнал «молодого наглеца».
Позже Котовский не раз вспоминал, как поступил «практикантом по сельскому хозяйству» в экономию помещика Кантакузино, где «крестьяне работали по 20 часов в день» . Здесь он повторил свой «подвиг» — соблазнил жену хозяина. Помещик приказал избить «практиканта» до полусмерти, раздеть и голого выбросить из имения. Так Котовского не унижал никто. Спустя время он отомстил обидчику: убил его, сжег усадьбу и сбежал…
Скрываясь в лесах, он сколотил банду из 12 человек, которая вскоре навела панику на всю Бессарабию. Газеты юга тогдашней России писали о Котовском так же, как Пушкин о Дубровском: «Грабительства, одно другого замечательнее, следовали одно за другим». Помещики в страхе бросали свои имения, переезжая в Кишинев.
Однажды, как свидетельствуют архивные материалы, арестованных за беспорядки крестьян полиция гнала в кишиневскую тюрьму, но в лесу на отряд внезапно налетели котовцы, крестьян отпустили, никого из охранников не тронули, только в книге старшего конвойного осталась запись: «Освободил арестантов Григорий Котовский».
Был случай: под Кишиневом сгорела деревня. Через несколько дней к подъезду дома местного крупного ростовщика подъехал в фаэтоне элегантно одетый, в шубе с бобровым воротником статный брюнет с крутым подбородком. Приехавшего барина приняла в приемной дочь ростовщика: «Папы нет дома». — «Может быть, вы разрешите мне подождать?» — «Пожалуйста». В гостиной Котовский очаровал барышню остроумным разговором и прекрасными манерами. А когда на пороге появился отец, молодой человек представился: «Котовский». Хозяева в истерике, умоляют не убивать. Но Котовский успокаивает дочку и объясняет ростовщику, что надо помочь погорельцам: «Я думаю, вы не откажетесь мне немедленно выдать для передачи им тысячу рублей». Тысяча рублей была ему вручена. Уходя, он оставил в альбоме барышни, полном провинциальных стишков, запись: «И дочь, и отец произвели очень милое впечатление. Котовский».
Котовский действовал с таким риском, что казалось, вот-вот его схватят. Куда там! Помещик Негруш хвастался среди кишиневских знакомых, что не боится Котовского: у него в полу кабинета вмонтирован звонок, и провод протянут в соседний полицейский участок. Котовский явился к Негрушу средь бела дня, скомандовал в шутку: «Ноги вверх!» — и потребовал деньги.
Ловкость, сила, звериное чутье сочетались в Котовском с большой отвагой. «Дворянин-разбойник» никогда не был бандитом из корысти. В феврале 1906 года Котовского арестовали. На суде он держался гордо, называл себя Робин Гудом и рассказывал, что действовал «по собственной справедливости». Приговор — 12 лет каторжных работ. В камере кишиневской тюрьмы его активно навещали женщины. Одна из поклонниц тайно принесла сигареты с опиумом, пистолет, спрятанную в хлебе ножовку и тонкую шелковую веревку. Сигареты Котовский отдал охранникам, в одну из ночей перепилил решетку и совершил побег. В полицейских сводках приводился «портрет уголовника». Указывалось, что Котовский — левша и обыкновенно, имея два пистолета, начинает стрелять с левой руки. Отличительная примета — татуированные веки (точки в виде восьмерки). Это, по мнению исследователей, свидетельствовало о его принадлежности к высшей иерархии бандитского мира. Уже будучи красным командиром, Котовский хотел избавиться от этих татуировок, но не получилось…
Вскоре его снова арестовывают, отправляют этапом на север России. Там Григорий вместе с другими заключенными строит Амурскую железную дорогу и работает на Нерчинских рудниках. В 1913-м, убив двух конвоиров, он бежит. Через два года 32-летний Котовский появляется в Одессе и становится грозой криминальной столицы Российской империи. Григория ищут на конспиративных квартирах, а он живет у всех на виду в лучшем отеле города «Бессарабия». Перед каждым налетом тщательно гримируется и всякий раз выходит на дело в новом образе. Даже посещает театры, наклеивая себе бороду и усы.
Во время одного из налетов в 1916 году Котовский, прозванный Атаманом ада, попадает в засаду. Военно-окружной суд приговорил его к смертной казни через повешение. Идет Первая мировая война. Все смертные приговоры должен утверждать командующий юго-западным фронтом генерал Брусилов. Котовский пишет прошение о помиловании, однако адресует его не генералу, а его жене, госпоже Брусиловой. Она читает это послание-раскаяние, и ей становится жалко красавца-бандита. В итоге Брусилов заменил казнь пожизненным заключением.
*Григорий Иванович на отдыхе с сыном Гришей. 1923 год
Когда началась Гражданская война, Котовский просит отправить его на фронт. Удивительно, но «пожизненника» выпускают на волю. Как свидетельствуют архивные документы, Григорий организовал в Одесском оперном театре аукцион, выставив на него свои «революционные кандалы». Во время этого действа юный Леонид Утесов представлял героя репризой: «Котовский явился, буржуй всполошился!»
Власть в Одессе постоянно менялась, город становился то «красным», то «белым». Котовский организовал диверсионную дружину, которая, имея связи с большевистским, анархистским и левоэсеровским подпольем, фактически никому не подчинялась и действовала на свой страх и риск. Вместе с людьми Мишки Япончика котовцы громили конкурентов, «бомбили» магазины, склады, кассы, напали на местную тюрьму и освободили заключенных. Их совместная акция — восстание революционеров и бандитов на Молдаванке в конце марта 1919 года.
— Буквально за день-два до прихода советской власти вместе с несколькими подручными Котовский совершил дерзкую вылазку — вывез на трех грузовиках из местного отделения Госбанка всю имевшуюся там наличность и драгоценности, — рассказывал автору этих строк историк, академик, автор книг «Бандитская Одесса» Виктор Файтельберг-Бланк. — Похищенные золото и бриллианты (по нашему курсу — примерно на 100 миллионов долларов) Котовский потом передал партии, что ему зачли в заслугу. Заметим, судьба этого богатства неизвестна. До сих пор на юге Одесчины, на Херсонщине, а также в Бессарабии есть энтузиасты, стремящиеся отыскать клады Котовского.
С весны 1919 года Григорий Иванович командует Тираспольским отрядом, воюя на стороне большевиков. В июле становится командиром одной из бригад 45-й стрелковой дивизии, участвует в обороне Петрограда. С января 1920-го — командир бригады, воюет на Кавказе, в Украине и на советско-польском фронте. В апреле того же года вступает в ВКП (б).
Котовский был признан «Лучшим красным командиром» (его подразделения не проиграли ни одного сражения), стал кавалером трех орденов Боевого Красного Знамени и обладателем почетного революционного оружия — инкрустированной кавалерийской шашкой.
31 октября 1922 года с подачи друга — Михаила Фрунзе — Котовского назначают командиром Второго кавалерийского корпуса. Здесь новый комкор открыто занялся бизнесом, создав при корпусе военно-потребительскую кооперацию с подсобными хозяйствами и цехами. О размахе Котовского-бизнесмена свидетельствует тот факт, что сахарные заводы конного корпуса перерабатывали ежегодно 300 тысяч пудов сладкого продукта. При дивизиях имелись совхозы, пивоварни, мясные магазины. Хмель, выращиваемый на полях подсобного совхоза, покупали чешские торговцы на 1,5 миллиона золотых рублей в год. Позже Котовский организовал в Винницкой области Бессарабскую сельскохозяйственную коммуну.
Он мечтал «собрать» все земли Бессарабии, даже те, что принадлежали Румынии. Но ему категорически запретили обострять политическую ситуацию. Летом 1925 года разгневанный 44-летний комкор оставляет свой корпус и вместе с беременной женой и сыном едет на отдых в поселок Чабанка под Одессой.
Там Котовский получает телеграмму из Москвы: нарком Фрунзе назначает его своим заместителем. Накануне отъезда в Москву, вечером 5 августа, его приглашают на праздник. Возвращаясь в два часа ночи, Григорий Иванович встречает возле дома, где остановился с семьей, своего знакомого Зайдера Мейера. Протянул ему руку, а в ответ прогремел выстрел.
Убийцу задержали, судили, однако не расстреляли, а приговорили к десяти годам тюрьмы, из которых он отсидел всего три, после чего был отпущен «за примерное поведение». (Правда, прожил Мейер на свободе недолго: счеты с ним свели котовцы.)
Современные историки утверждают, что именно это убийство стало первым заказным в СССР. В середине 1920-х годов Сталин начал укреплять свою единоличную власть. Ему удалось отстранить от руководства основного конкурента — Льва Троцкого. Но среди самых независимых командиров еще оставались Фрунзе и Котовский. Спустя два месяца после гибели Котовского умер Фрунзе — на операционном столе, при невыясненных обстоятельствах.
На следующий день после убийства Котовского, 7 августа 1925 года, из Москвы в Одессу была направлена группа специалистов во главе с профессором Владимиром Воробьевым — для бальзамирования тела Котовского (Воробьев бальзамировал тело Ленина). Одновременно в центре Бирзулы, в городском парке, возвели по решению правительства мавзолей.

*Жена комкора Котовского Ольга у гроба мужа
В 1941 году фашисты взорвали усыпальницу, разбили саркофаг, а забальзамированное тело (местные жители утверждают, что румынский офицер отсек шашкой голову Котовского) выбросили в траншею вместе с трупами расстрелянных местных жителей. В ту же ночь рабочие железнодорожного депо вырыли останки Котовского и спрятали их на чердаке, предварительно облив дефицитным в военное время спиртом.
После освобождения города в уцелевшей подземной части мавзолея оборудовали памятник-склеп. Останки поместили в запаянный цинковый гроб с маленьким окошком. В конце 1965 года состоялось торжественное открытие нового мавзолея, над которым установлен монумент из гранита и мрамора с бюстом красного командира.
До сих пор продолжаются споры — настоящий ли Котовский лежит в мавзолее. Существует мнение, что его тело все же потерялось в 1941 году. Правду можно узнать, если провести экспертизу ДНК. Однако никто из наследников Котовского так и не потребовал сделать это. Экскурсии в музей-склеп не проводятся по причине его аварийного состояния. В городе, который до недавнего именовался Котовском, не знают, что делать с мавзолеем. Как пояснил первый заместитель городского головы Анатолий Корчевой, склеп официально не подпадает под закон о декоммунизации. Потому местные власти обратились в Министерство культуры за рекомендациями и разъяснениями, что же делать с этой реликвией.