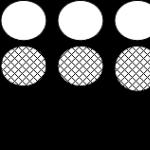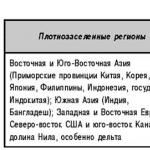К сожалению, хотя Александр Петрович Межиров скончался только 22 мая 2009 года, последние его произведения датируются годом 1993. Мы не знаем этого точно, но есть сведения, что в последние годы тяжёлая болезнь уже не позволяла писать. Тем не менее, стихи Александра Межирова изданы во множестве книг, и ничуть не менее плодовит он был, как переводчик.
Александр Петрович родился 26 сентября 1923 года в Москве. Семья была хорошо образованной: отец - юрист, мать - учитель. До начала войны в жизни будущего поэта не произошло каких-то значимых и интересных событий. Александр Межиров стихи начал писать только в 1941 году, уйдя на фронт.
Воевал классик на Ленинградском фронте. Был несколько раз ранен, перенёс тяжёлую болезнь, а потому до конца войны покинул армию - его демобилизовали в 1944. После этого, Межиров решил всерьёз заняться литературой.
Он поступил сначала в Литературный институт имени Горького, затем учился и в МГУ. В конце 1940-х начали выходить в печать первые сборники - а публикации в прессе, разумеется, имели место и ранее. Достаточно быстро Межиров набрал и популярность у читателей, и авторитет среди коллег. В шестидесятые он уже преподавал будущим литераторам.
Репутация Межирова, однако, не была безупречна. Он слыл азартным игроком, а также оказался замешан в загадочной истории дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб актёр Юрий Гребенщиков. Это случилось в 1988 году, и уже довольно скоро, сильно переживая из-за случившегося, поэт переехал в США.
Там он и написал последние свои стихи, датированные 1992-1993 годами. Жил сначала в Портленде, затем в Нью-Йорке - где, судя по всему, и заболел, лишившись возможности продолжать творить. Александр Межиров скончался в США, но прах его был перевезён в родную Москву.
Александр Петрович Межиров родился 26 сентября 1923 года
в Замоскворечье в еврейской семье, переселившейся в Москву из Чернигова незадолго до его рождения: отец - юрист по профессии Пинхус (Пётр) Израилевич Межиров (1888-1958) - работал в московском представительстве Черниговского крайсоюза, позже экономистом, мать - учительница немецкого языка Елизавета Семёновна Межирова (1888-1969).
Со школьной скамьи в 1941 Межиров ушел на фронт. В 1942-1943 воевал под Ленинградом в 1-м батальоне 864-го стрелкового полка 189-й стрелковой дивизии, которая в разное время входила в состав 42-й, 67-й и 55-й армий. С 1942 - заместитель командира стрелковой роты по политчасти, в 1943 году был принят в ВКП(б). Участник боёв по прорыву блокады Ленинграда на синявинском и красноборском направлениях. В марте 1943 под Саблино был контужен. В 1944 после лечения демобилизован в звании младшего лейтенанта.
В 1948 Межиров окончил Литературный институт им. А.М. Горького, а годом раньше вышла его первая книга стихов «Дорога далека» (1947 ), в которую было включено стихотворение «Человек живет на белом свете...» (поэт не ставит под стихами дат их написания, считая, что время их создания должно быть ощутимо и без дат), оказавшееся программным для всего творчества Межирова. Здесь истоки контрастных и символических образов - «холода» войны и «тепла» мира, которые пройдут через все творчество поэта. Символический оттенок есть и у образа «человека... на белом свете». Для поэта, лежащего в «ледяном кювете», это воображаемое обобщенно-идеальное лицо, являющееся одновременно и его собственным двойником («Мой далекий отсвет! Мой двойник!»), образ которого и помогает преодолеть «гробовую полосу» войны и смерти.
Поэзия Межирова чаще всего воспринимается в ее обыденном, реально-бытовом плане. Любой житейский случай, как правило, описывается обстоятельно и вроде бы излишне подробно. Такое же пристрастие к нагнетанию деталей легко заметить в последующих стих, поэта: «Баллада о цирке», «Одиночество гонит меня...», «Календарь», «Музыка», «Эшелон», «Серпухов», «Ну а дальше что? Молчанье. Тайна», «На всякий случай...», «Черкешенка» и многие другие. Пристрастие к реалистическим деталям свидетельствовало о стремлении поэта выявить в бытовом бытийное, увидеть в простом и обыденном нечто значительное, высокое, идеальное. Драматический, а порой и трагедийный путь к идеалу в поэзии Межиров несомненно носит романтический характер.
Первым послевоенным рубежом, на котором романтические идеалы Межирова столкнулись с суровой действительностью, было ужесточение сталинского режима после войны, пагубно сказавшееся на творчестве многих писателей. Влияние официальной идеологии сказалось и на сборники стихов Межирова этих лет: «Новые встречи» (1949 ) и «Коммунисты, вперед!» (1950 ), в которых лирическая раскованность и открытость миру, проявившиеся в книге стихов «Дорога далека», уступили место балладным ритмам, внутренней сдержанности и волевым усилиям, направленным на преодоление трудных жизненных рубежей.
Преподавал на кафедре литературного мастерства Литературного института имени А.М. Горького с 1966 . Многие годы вёл в этом институте поэтический семинар на Высших литературных курсах (ВЛК). Оказал влияние на молодых поэтов 1960-х годов - Е. А. Евтушенко, И.И. Шкляревского, О.Г. Чухонцева, А.К. Передреева.
Творческий взлет у Межирова, как и у многих поэтов разных поколений, приходится на конец 1950-х - начало 1960-х - на время «оттепели». Вслед за сборником «Возвращение» (1955 ) последовали «Ветровое стекло» (1961 ), «Прощание со снегом» (1964 ) и «Подкова» (1967 ). В них продолжает играть немалую роль волевое балладное начало, однако теперь уже осложненное лирическими монологами («Баллада о цирке» и др.). Нередко лирическое начало, обретая внутреннюю раскованность, становится песенным.
Мелодия народной песни «Лучинушка» помогает в стихотворении «Любимая песня» обострить нравственный слух и найти моральное очищение в сострадании и любви.
Духовно-нравственная чуткость позволяет Межирову одинаково глубоко воспринимать и «музыку» эпического, общенародного единства в годы великой войны, и «музыку» отдельных человеческих судеб, преимущественно женских.
Среди стихотворений Межирова, в которых определяющим является мотив женственности («Сон», «Календарь», «С войны», «Штраф», «Аттракцион», «Прощание с Кармен», «На всякий случай...», «Как же мог умолчать я об этом...», «Черкешенка», «Лестница» и др.), особое место занимает лирико-драматическая баллада «Серпухов», в которой простая русская женщина - няня Дуня, воспитавшая поэта,- становится олицетворением России (как это было в известном стихотворении В. Ходасевича «Не матерью, но тульскою крестьянкой...»).
Третий период в творчестве Межирова, проходящий под знаком углубления духовного начала и трагедийного парадоксализма, отличается от предшествующих периодов суровым аскетизмом, сухостью и жесткостью в изображении предметного мира и человеческих взаимоотношений, стремлением отжать как можно больше «влаги» из «сырой» действительности, обострением антитезы между «прозой» и «поэзией» жизни, реальным и идеальным. Особенности этого периода нашли свое выражение в книгах стихов «Под старым небом» (1976 ), «Очертания вещей» (1977 , здесь в полном виде представлена поэма «Alter ego»), «Проза в стихах» (1982 ) «Бормотуха» (1991 ).
В конце 1980-х начал также писать стихи для детей. На протяжении всего творческого пути Межирова успешно занимался переводами, в основном грузинских и литовских поэтов (И. Абашидзе, С. Чиковани, Ю. Марцинкявичус и др.).
С 1992 проживал в США, сначала в Портленде (штат Орегон, где ранее поселились его дочь и внучка), затем в Нью-Йорке. Продолжал писать стихи. Последней крупной работой поэта стала поэма «Позёмка» (1993 ).
Александр Межиров скончался 22 мая 2009 года в больнице Рузвельта в Нью-Йорке. 25 сентября 2009 года урна с прахом покойного, привезённая из США дочерью поэта, была захоронена на Переделкинском кладбище.
Межиров Александр Петрович (1923-2009), русский советский поэт, переводчик.
Летних сумерек истома
У рояля на крыле.
На квартире замнаркома
Вечеринка в полумгле.
<...>
И под вальс веселой Вены,
Шаг не замедляя свой,
Парами-в передвоенный,
Роковой, сороковой.
Межиров Александр Петрович
Биографические сведения о поэте крайне скупы. Редкие самопризнания отчасти компенсируют неизбежные пробелы. «Дом, в котором я родился и рос, - вспоминал он в 1995, - и теперь стоит на берегу Москвы-реки, окнами на Кремлевскую набережную и Лебяжий переулок. На другом берегу - Замоскворечье, Болотный рынок, Кадашевские бани, купеческие особняки в тихих переулках, особый, еще не разбавленный замоскворецкий говорок». Невдалеке находился Храм Христа Спасителя, куда водила в детстве няня, и свидетелем сноса которого был Межиров. Через реку - знаменитый «Дом на набережной» (ему посвящен роман Ю.В.Трифонова), где жила партийная элита и в конце тридцатых годов происходили регулярные аресты.
Межиров относится к поколению, на плечи которого пришлись все тяготы войны: «В сорок первом году, через несколько недель после выпускного вечера, я ушел на фронт. Воевал солдатом и заместителем командира стрелковой роты на Западном и Ленинградском фронтах, в Синявинских болотах».
В 1943 вступил в коммунистическую партию. В том же году, тяжело раненый, контуженный, был демобилизован. Вернувшись в Москву, посещал исторический факультет МГУ, прослушав там полный курс в качестве вольнослушателя, и одновременно учился в Литературном институте им. А.М.Горького, который окончил в 1948. Вся его дальнейшая жизнь связана с литературой. В газете «Комсомольская правда» от 23 марта 1945 появилась первая публикация - стихотворение В сорок первом. Вскоре начинает печататься в таких изданиях, как «Комсомольская правда», «Литературная газета», журналы «Знамя» и «Новый мир».
В военных стихах Межирова картины войны чередовались с картинами мирной жизни, за военными событиями всегда присутствовало воспоминания о днях тишины.
Факты и события частной жизни автора преображены в художественные образы, перед читателем - биография лирического героя, а не автора. Поэзия Межирова, в широком смысле слова, это роман со сквозными лейтмотивами, разыгрываемый по законам искусства. Это заявлено уже в названии первой книги Дорога далека (1947), перефразирующем четверостишие Н.И.Глазкова: Я сам себе корежил жизнь, / Валяя дурака. / От моря лжи до поля ржи / Дорога далека. Стихи эти, опубликованные много позднее, были прекрасно известны в литературной среде, знал их и Межиров, великолепный знаток русской поэзии, «поэтический всезнайка», способный часами читать стихотворение за стихотворением.
Один из главных лейтмотивов в поэзии Межирова - «двойничество», возникший еще в 1944 (дату назвал сам автор, что отнюдь не типично, ведь даже в Избранном он принципиально не указывает, когда написано то или иное произведение) в стихотворении Человек живет на белом свете…, где сопоставляются две судьбы - неизвестного человека, который живет мирной жизнью, входит в теплый дом с мороза, поднимается по лестнице в свою квартиру, и лирического героя, от чьего лица написано стихотворение, человека, который лежит в холодном кювете, заметаемый снегом, ожидая приказа к атаке. Мотив этот развивается, варьируется. Впоследствии стихотворения, посвященные жизни таких «двойников», были объединены в поэме Alter ego, куда упомянутые стихи включены в качестве пролога. Опубликованная в сборнике Под старым небом (1976), поэма затем была вновь рассыпана на отдельные произведения.
Межиров Александр Петрович (1923-2009), русский советский поэт, переводчик.
Биографические сведения о поэте крайне скупы. Редкие самопризнания отчасти компенсируют неизбежные пробелы. «Дом, в котором я родился и рос, - вспоминал он в 1995, - и теперь стоит на берегу Москвы-реки, окнами на Кремлевскую набережную и Лебяжий переулок. На другом берегу - Замоскворечье, Болотный рынок, Кадашевские бани, купеческие особняки в тихих переулках, особый, еще не разбавленный замоскворецкий говорок». Невдалеке находился Храм Христа Спасителя, куда водила в детстве няня, и свидетелем сноса которого был Межиров. Через реку - знаменитый «Дом на набережной» (ему посвящен роман Ю.В.Трифонова), где жила партийная элита и в конце тридцатых годов происходили регулярные аресты.
Межиров относится к поколению, на плечи которого пришлись все тяготы войны: «В сорок первом году, через несколько недель после выпускного вечера, я ушел на фронт. Воевал солдатом и заместителем командира стрелковой роты на Западном и Ленинградском фронтах, в Синявинских болотах».
В 1943 вступил в коммунистическую партию. В том же году, тяжело раненый, контуженный, был демобилизован. Вернувшись в Москву, посещал исторический факультет МГУ, прослушав там полный курс в качестве вольнослушателя, и одновременно учился в Литературном институте им. А.М.Горького, который окончил в 1948. Вся его дальнейшая жизнь связана с литературой. В газете «Комсомольская правда» от 23 марта 1945 появилась первая публикация - стихотворение В сорок первом. Вскоре начинает печататься в таких изданиях, как «Комсомольская правда», «Литературная газета», журналы «Знамя» и «Новый мир».
В военных стихах Межирова картины войны чередовались с картинами мирной жизни, за военными событиями всегда присутствовало воспоминания о днях тишины.
Факты и события частной жизни автора преображены в художественные образы, перед читателем - биография лирического героя, а не автора. Поэзия Межирова, в широком смысле слова, это роман со сквозными лейтмотивами, разыгрываемый по законам искусства. Это заявлено уже в названии первой книги Дорога далека (1947), перефразирующем четверостишие Н.И.Глазкова: Я сам себе корежил жизнь, / Валяя дурака. / От моря лжи до поля ржи / Дорога далека. Стихи эти, опубликованные много позднее, были прекрасно известны в литературной среде, знал их и Межиров, великолепный знаток русской поэзии, «поэтический всезнайка», способный часами читать стихотворение за стихотворением.
Один из главных лейтмотивов в поэзии Межирова - «двойничество», возникший еще в 1944 (дату назвал сам автор, что отнюдь не типично, ведь даже в Избранном он принципиально не указывает, когда написано то или иное произведение) в стихотворении Человек живет на белом свете…, где сопоставляются две судьбы - неизвестного человека, который живет мирной жизнью, входит в теплый дом с мороза, поднимается по лестнице в свою квартиру, и лирического героя, от чьего лица написано стихотворение, человека, который лежит в холодном кювете, заметаемый снегом, ожидая приказа к атаке. Мотив этот развивается, варьируется. Впоследствии стихотворения, посвященные жизни таких «двойников», были объединены в поэме Alter ego, куда упомянутые стихи включены в качестве пролога. Опубликованная в сборнике Под старым небом (1976), поэма затем была вновь рассыпана на отдельные произведения.
«Раздвоенность» отнюдь не случайна. Межиров недаром утверждал в стихах, полемически заостряя ситуацию, что у него две книги: Дорога далека, оплаченная «страданьем плоти», и Ветровое стекло, которую он «выстрадал сполна духовно». На самом деле за первым последовали сборники Новые встречи (1949), Коммунисты, вперед! (1955), Возвращение (1955), «Разные годы (1956). Лишь затем появился сборник Ветровое стекло (1961) - по слову автора именно книга, то есть цельное художественное образование («…специально задумать и написать книгу стихов невозможно. Она может сложиться или не сложиться, как складывается или не складывается жизнь», - сказал он позднее).
Таким образом очерчены два круга тем. Стихи о войне, среди них ставшее впоследствии хрестоматийным стихотворение Музыка, где вновь разрабатывается тема если не «двойничества», то сопредельного, параллельного существования самых разных и незнакомых между собой людей: Стенали яростно, / навзрыд, / Одной-единой срасти ради / На полустанке - инвалид / И Шостакович в Ленинграде», и не менее известные Календарь, Утром, Воспоминание о пехоте, Коммунисты, вперед!. Герой их, «нежный отрок, еще не остывший от игр и мечтаний» (Л.Аннинский). В нем живет мальчишество, нерастраченная детскость. Он может вскрыть банку сгущенного молока, высунуть руку из окна поезда и смотреть, как длинная сладкая нить вьется вдоль идущего на фронт эшелона, не задумываясь, что потом он не раз вспомнит о своем ребячестве, грызя фронтовой сухарь (Проводы).
И тот же герой, уже возмужавший, ищет свое место в послевоенном мире. Для этого круга тем характерна Баллада о цирке, повествующая о жизненном пути героя от рождения в цирковом шарабане, через войну, к литературе. Вертикальная стена, по которой он ездит на мотоцикле (популярный довоенный и послевоенный зрелищный номер) предстает новым кругом дантовского ада. «Но это все-таки работа…», - уговаривает он себя, признавая при том, что номер «ложный». Цирковая тема присутствует и в других стихотворениях.
«Разорванность» (вариант «двойничества») существует и в неявном, однако напрашивающемся сопоставлении большого мира, родины с ее просторами, приметами которой стали для автора такие московские уголки, как Лебяжий переулок и Арбат до реконструкции, - и от сборника к сборнику приобретающего все более конкретные черты мира спорта, искусства, мира профессиональных игроков, кастового и потому для многих враждебного. Балетные студии, мастерские художников, ипподром, бильярдная, карточный стол - места, где случайность может разрушить то, чего добиваются упорным трудом, неделями и месяцами репетиций и тренировок, но где везение либо азарт и дерзость способны принести внезапный успех, становятся для лирического героя в каком-то смысле заменой большого мира.
В такой художественной системе, независимо от авторских намерений, некоторые произведения воспринимаются как аллегории. Таковы стихи Мы под Колпином скопом стоим, / Артиллерия бьет по своим, стихотворение Закрытый поворот, где желание вписаться в этот закрытый поворот опять-таки аллегорично (здесь и смелость, и безрассудство, и вызов, брошенный опасности). Для стихов этого периода характерно и стремление к афористичности, иногда в ущерб стилю: До тридцати - поэтом быть почетно / И срам кромешный - после тридцати (Всё то, что Гёте петь любовь заставило…).
В начале творческого пути Межиров создал несколько неудачных поэм (На рубежах, Годы Чкалова и др.), где сюжет ослаблен или подменен риторикой, но вскоре осознал, что единица его поэтического мышления - отдельное стихотворение. Отсутствие датировки дает возможность перетасовывать, выстраивать стихи, создавая сверхсюжет.
Произведения Межирова часто издаются, выходят многочисленные сборники: Стихи и переводы (1962), Стихотворения (1963), Прощание со снегом (1964), Ладожский лед (1965), Подкова (1967), Лебяжий переулок (1968), Стихотворения (1969), Невская Дубровка (1970), Поздние стихи (1971), Тишайший снегопад (1974), Недолгая встреча (1975), Времена (1976).
К концу 1970-х поэтика Межирова претерпевает заметные изменения. Тщательно сконструированный поэтический мир приобретает остросовременные черты, прошлое лирического героя подвергается переосмыслению, иногда получает отрицательную оценку.
Рефлексия становится постоянна, однако не очевидна. Данная не впрямую, она также может восприниматься читателем как автопризнание лирического героя, переплетенное с биографическими мотивами автора.
Драматична судьба персонажа одного из стихотворений - игрушечного мастера, выступающего в роли демиурга (разумеется, речь идет о любом творце, в частности, о литераторе): Он был умен, бездушен, пустотел, - / Слагая строки полые, тугие, / Чем занимался и чего хотел, - Сказать неправду лучше, чем другие (Мастер). Созданные им игрушки - Петрушки, Матрешки и Буратино - многое у него переняли и «простерли» над своим создателем «непререкаемую власть». Теперь мастер и его творения связаны навсегда, они цепляются друг за друга, чтобы не упасть, не потерять равновесия.
Цирковая тема, как бы завершив круг, возвращается к исходной точке: Быть может, номера у нас и ложные, - / Но все же мы работаем без лонжи, - / Упал - пропал, костей не соберешь. / Так размышляет он. И тем не менее - / Сомнительное самоутешение (Зима).
«Чужое», заимствованное слово встраивается в текст, столкновение разнородной лексики переходит в словесную какофонию: Позвоню на виллу Сименону, / Сименон ажанам позвонит - / Тары-бары, и тебя без шмону / Выпустят в объятья аонид (Alter ego). С одной стороны, так выражается жесткая ирония, почти сарказм поэта по отношению к описываемым характерам и ситуациями - быту богемы, псевдоинтеллектуалов, нуворишей, сильных мира сего (в действительности - замкнутого мирка), с другой стороны какофония эта противопоставлена высокой музыкальности, наличие которой в стихах Межирова неоднократно отмечали критики.
В 1970-х книги Межирова выходят чуть реже, но регулярно. Это сборники Очертанья вещей (1977), Медальон (1979), Избранные произведения в двух томах (1981), Тысяча мелочей (1984), Теснина (1984), Закрытый поворот (1985).
За сборник Проза в стихах (1982, 1989), где новая поэтика полностью утвердилась, Межиров был награжден Государственной премией СССР (1986).
Религиозные мотивы, неявно присутствовавшие и прежде, здесь превращаются в мотивы эсхатологические. Ожидание Страшного суда все томительней, все напряженней. Такая трактовка очевидна в свете событий, определивших судьбу Межирова. Привычный ход жизни был в одночасье сломлен, весь порядок жизни нарушен. Работа над стихами и переводами - Межиров активно переводил литовских и особенно грузинских поэтов - ушла в прошлое.
В январе 1988 машина, за рулем которой находился Межиров, сбила человека. Межиров скрылся с места аварии, пешеход скончался. Этот поступок, никак не вязавшийся с образом фронтовика, интеллигента, носителя высоких нравственных норм, и тайная неприязнь писательской публики к удачливому и преуспевающему собрату по перу стали причиной долгого разбирательства в Союзе писателей и резкого общественного осуждения. Межиров, в конце концов, не выдержал остракизма. В 1994 он уехал в США. До отъезда увидели свет только книги Избранное (1989) и дважды изданная Бормотуха (1989, 1991).
Книга Межирова Поземка (1997), где наряду со старыми стихами напечатаны и новые, продемонстрировала изменения в строе стиха: «чужое» слово почти сходит на нет, но утрачена и музыкальность. Привычная языковая стихия будто бы отчуждается, волею случая поэт обречен убыванию слова / Неродного-родного (Потому что непреодолима граница…). Тяжкое признание в устах литератора, для которого русская культура была почти всем. И томит вопрос без ответа: За что? За то, что может быть однажды / Из вас случиться с каждым и любым… (Набросок).
Возвращение Межирова к российской аудитории началось с телепередачи, показанной по центральному телевидению осенью 2003 и приуроченной к восьмидесятилетию поэта. Умер Межиров 22 мая 2009 в Нью-Йорке.
Из книги судеб. Александр Петрович Межиров родился 26 сентября 1923 года. В Москве. Воевал, ранен, контужен и демобилизован в сорок третьем… Через пять лет окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Активно печатался, издавал книги, преподавал. И много переводил. Получил признание, премии... С 1992-го живёт в США...
Всё, о чём я очень коротко упомянул, подробно изложено в Сети и книгах. И о многих деталях биографии Александра Межирова мне довелось узнать из самых разных источников. Всё это я читал, изучал, ещё не подозревая, что познакомлюсь с АП в Нью-Йорке, в начале 2005 года. Да, классик советской и русской поэзии уже давным-давно обосновался в центре Манхеттена…
М ы встретились-пересеклись с Александром Петровичем на очередной презентации журнала «Слово/Word». Авторы читали стихи, гости слушали, главный редактор - вещал. И я читал, а потом подошёл к АП - ну как не подойти?! - что-то невнятно сказал о моём почтении к патриарху, как всё неожиданно и приятно и т. д. и т. п. И, грешен, дерзнул спросить о своих стихах - мол, слушали ли, как вам, что посоветуете...
Ответ был немногословен, Александр Межиров вообще немногословен - тем более в таком возрасте. Но он сказал главное:
Да, конечно, внимательно слушал. Вам не нужны советы. У вас есть главное: Вы - свободны.
Но ведь есть какие-то систематические ошибки, слабые стороны...
Это всё второстепенно.
О какой свободе он говорил? Нет, не о свободном владении техникой стиха. Это можно набрать, наработать. Думаю, о личной свободе - как в темах, так и средствах их раскрытия. Об элементарной «небоязни» в выборе - «о чём писать» и «как писать».
Не раз я вспоминал этот неожиданный ответ. И всё больше соглашаюсь, что «свобода» - главное.
Думаю, что вопрос личной творческой свободы, раскрепощённости, свободы от всем известного «как бы чего не вышло» - был важным вопросом и для самого Александра Межирова - в течение всей его жизни. Надо ли напоминать, что в ТОЙ жизни, в ТЕ времена это было важным вопросом для всех…
Позже мы ещё несколько раз встречались на презентациях и в клубе поэтов Нью-Йорка. Несколько раз я заезжал за ним, чтобы помочь собраться, привезти на встречу и отвезти домой. Бывал у Межировых дома, где всегда с улыбкой меня встречала его жена Елена.
Нью-Йорк подавляет АП . Несколько раз мы ездили с ним по Манхеттену, и каждый раз он вслух выражал своё восхищение:
Какая громадина! Ведь что понастроили, это просто немыслимо - всё это построено человеком... Это нечто!
И опять я поддерживаю разговор, тем более что и сам каждый раз, уже семнадцать лет, удивляюсь нагромождению небоскрёбов на этом небольшом острове.
Это ведь невозможно описать в поэзии, - говорит Межиров, - достойно описать невозможно, нет тех слов!
Соглашаюсь, опять соглашаюсь… Но при очередной встрече всё же решаюсь прочесть ему свою версию о Нью-Йорке:
Город-улей - миллионов. Я - один.
Гонят улиц мили в молы: «Welcome in!»
Подо мной червей сабвеи вглубь ползут,
выгрызают, как себе я, - землю, путь.
Надо мною небоскрёбов миражи -
муравейники, где в робах - мураши.
Город-призрак: и знакомый и чужой,
вниз летящий - в катакомбы, ввысь - чижом.
Город стонет под бетоном, тянет вниз,
за мостами вместе тонут - Бруклин, Квинс.
Давят здания-колоссы слизь толпы.
Давят жёлтых такс колёса - в топь и пыль.
Словно осы нас уносят, как пыльцу,
опылять подъездов розы, местный ЦУМ.
За спиной пролёты-плети - авеню -
бьют со стритами дуплетом... Не виню...
Он выслушал, помолчал...
Ну, знаете, Вы такое написали... даже не знаю... наверное... Это да... Это нечто...
Примерно так он и выражает свои впечатления. Как оценить такой отклик? Трудно... Но позже, читая ему разные стихи по телефону, я научился распознавать реакцию АП . Когда очень понравилось: «Ну, вы - Поэт...» или: «Вы написали вещь!». А межировское «Нечто!» - это оценка, поверьте мне. Услышать «Вы молодец» - тоже похвала стихотворения, а не вас лично.
В остальных случаях будут полунейтральные слова... И это я тоже слышал. Конечно, стихи о войне вызывают у него обострённую реакцию - это межировское, сердцевинное. Но у мэтра нет ревности к посягающим на «его» тему. Он давно выше этого. Очень давно…
Он живёт в центре Манхеттена в многоэтажном доме, из окон которого открывается вид на город. Недалеко проплывает тот самый Гудзон, который Маяковский росчерком пера переместил под Бруклинский мост. Где-то в закоулках Манхеттена живёт и дочь Маяковского, удивительно похожая на отца. И ещё 14 миллионов живёт в этом огромном городе и его пригородах. И множество «наших» - русских эмигрантов. И среди них Александр Межиров - обычный американский пенсионер.
Обычный?! В определённом смысле да, - таких пожилых людей, всю жизнь обитавших в других странах, работавших иногда во вред Америке (о! не только генерал Калугин) сейчас на пенсии «по старости» (так и называется) в цитадели международного империализма предостаточно.
Но, конечно, Александр Межиров не обычный пенсионер. И дело не в его знаменитом «Коммунисты, вперёд!», за которое одни до сих пор ему благодарны, а другие - с усмешкой вспоминают как нонсенс: автор стихотворения теперь в Америке! Ну да - в Америке. И Евтушенко - в Америке, и Коржавин - в Америке...
А кто помоложе, из современных?! Хватает. Ох, эти поэты...
Только поэты? Ладно, не будем сейчас о певцах, композиторах, фигуристах, хоккеистах... Где кроется проблема, почему это вызывает если не осуждение (причём, немалое), то раздражение.
А Тургенев и Горький своей прошлой зарубежной жизнью не раздражают? Почему американцы не вычеркнули из списка «американских» писателей Хемингуэя, прожившего двадцать четыре года в Гаване? В чём разница?
Неужели только в новом человеке - «гомо советикус» - со своим уникальным менталитетом?
Уверен: дело не в том, что кто-то живёт там, а в том, как живут в это время тут. Не потому ли к Хемингуэю претензий нет? Ну жил себе в Гаване и ладно. Жил-то не лучше, чем средний американский писатель в это же время в самой Америке. И к Артуру Кларку, жившему с 1956-го в Шри-Ланке тем более претензий нет. Его жизнь - его Шри-Ланка. Но вот эти все евтушенки, межировы, коржавины... Думаю, живи они в Шри-Ланке, всё было бы спокойнее. А лучше бы в Уганде или Гаити. Тогда вообще - герои!
Евгений Евтушенко продолжает преподавать, успевает выступать, выпускает антологии русской поэзии и не забывает о своём учителе Александре Межирове. С теплом говорит о нём на каждом выступлении и обязательно навещает, приезжая в Нью-Йорк. Именно его заслуга в том, что появилась последняя книга избранного АП - он её готовил вместе с автором. Не раз я слышал от Елены: «Это всё Женя, если бы не он…»
Вот мы и снова обратились к Межирову, написавшему «Коммунисты, вперёд!». Да, написал. И не раскаивается. Не в чем раскаиваться! Так тогда дышалось, так тогда писалось. И не о коммунистах оно, а о войне в первую очередь. Собственно, моё знакомство с поэзией Межирова началось с этого стихотворения. Оно звучало на каждом официальном концерте в честь... в годовщину... в юбилей... в ознаменование... Кто этого не помнит? Разве что совсем молодые... Но вот что удивительно - я опять и опять был готов слушать пронзительные строки. Да и сейчас, когда та эра в прошлом и столько разного, вполне справедливого и не очень, сказано об эпохе строительства коммунизма во благо такого непонятливого к неизбежным жертвам и неблагодарного за стойкость вождей народа, даже здесь, в Нью-Йорке, - вдали от мест столь отдалённых, после Шаламова, Солженицына и Разгона - я читаю это стихотворение снова, и отдаю должное поэтической мощи автора. Если оценить текст одним словом, то прозвучит, извините за пафос: «Шедевр!»
Н о, конечно, поэт Межиров заслужил себе место в Поэзии не этим стихотворением, вернее, не только этим. Он прежде всего поэт-фронтовик. Тема войны звучит в его стихах, подписанных разными датами на протяжении десятилетий. Помните его знаменитое:
Пули, которые посланы мной,
не возвращаются из полёта,
Очереди пулемета
режут под корень траву.
Я сплю,
положив голову
на Синявинские болота,
А ноги мои упираются
в Ладогу и в Неву…
А кто не слышал:
Мы под Колпино скопом стоим,
артиллерия бьёт по своим...?
Именно так - «Артиллерия бьёт по своим» - названа последняя книга Александра Межирова, подготовленная его учеником (о чём он сам с гордостью говорит) - Евгением Евтушенко. Презентация тома избранных произведений АП состоялась в известном «21 книжном магазине» Нью-Йорка. Александр Петрович, как обычно, был молчалив, казалось, он не слушает выступающих... Он погружён в себя. Иногда рассеян. И все уже привыкли к этому. Но вот кто-то говорит о стихотворении «Артиллерия бьёт по своим»: мол, прошло около полувека с момента его написания, а оно...
И вдруг Александр Межиров вставляет мгновенную фразу, как ударом кия по шару: Сегодня ровно 50 лет! Удивление у многих. Но мне уже знаком такой Межиров. И мне иногда казалось, что он невнимателен, не слушает, и, скорее всего, были такие моменты тоже. Но вдруг его ответ, его реакция на вопрос или поэтический текст - абсолютно чёткие, понятные. Без суеты, без недомолвок…
Он чувствует себя неуютно, когда вокруг много людей, особенно незнакомых ему. Лучше один на один. Ещё лучше по телефону. Тогда он раскрывается, более разговорчив. Он с жадностью берёт предложенные ему книги или распечатки стихов. Я не был уверен, читает ли он сам. Всё же - ЗА 80!
Но на одной из презентаций АП читал прямо с листа и без очков. И удивил многих.
Вот и на презентации книги - удивил.
Дошла очередь и до меня. Хорошо зная стихи Александра Межирова, включая эмиграционные, я уже заметил огневое чувство юмора поэта. Разве не замечательно:
Кто мне она? Не друг и не жена.
Так, на душе ничтожная царапина.
А вот - нужна, а между тем - важна,
Как партия трубы в поэме Скрябина.
За то, что на чужбине
Жил, а не выживал,
Неясен был общине,
Но не претендовал
На дружбы, на участья, -
Избегнуть жизнь смогла
Смертельной скуки счастья
Её Добра и Зла.
Как жил? Да так - безбытно,
Ни рай, ни благодать, -
И было любопытно
Всё это наблюдать.
И я решился на шутку под названием «Эмигранты, вперёд!».
Читал и наблюдал за реакцией Межирова.
И завершил:
Хоть когда, хоть куда,
Хоть на маленький срок,
За железный забор, до закрытых ворот,
Сквозь Овиры
по миру,
но чаще
в Нью-Йорк,
- Эмигранты, вперед! Эмигранты, вперёд!
Межиров улыбался.
 А ведь могло быть иначе. Зрители тоже встретили хорошо, смех и аплодисменты.
А ведь могло быть иначе. Зрители тоже встретили хорошо, смех и аплодисменты.
Свою книгу с этим посвящением я и подарил Межирову.
Но выговор всё же получил: от главреда «Слово/Word» - Ларисы Шенкер.
Смутившись - не обидел ли Поэта?! - я позвонил через несколько дней Межировым.
Подняты две трубки в разных комнатах, на другом конце провода - Александр Межиров и его жена Елена. Объясняюсь, вопрошаю...
Ну что вы, Миша, перестаньте. Очень милое посвящение, мы смеялись. И предавайте привет вашей очаровательной жене...
Миша, всё замечательно, это было нечто, - вторит сам Александр Межиров.
Ну слава тебе... Конечно, «свобода», столь ценимая Межировым, но в пределах свободы других... Не так ли? Оценка «нечто» тоже мне уже знакома.
А привет жене... передаётся постоянно с того визита, когда мы были в их доме перед очередной презентацией. Ну очень приглянулась жена поэта жене Поэта.
И всё же, меня не отпускает главное воспоминание о Межирове, не имеющее отношение к поэзии.
Каждый раз, когда я везу его в своём авто, он повторяет: Вы замечательно водите машину... Опять и опять. А ведь вожу я так себе, средне. В первый раз я ещё не знал, почему и как Межиров оказался в Америке. Своя эмиграция отодвинула все события жизни там на задний план. Позже прочёл. У каждого свои причины, есть они и у Межирова. Готовы осуждать? Обсуждать? Вместе с журналюгами-прощелыгами. Меня - увольте!
Не забыли случайно «не судите, да не судимы будете...» Я не забыл. А наказание - свой крест - каждый несёт сам. Поэтому я столько раз слышал от Поэта: «Вы замечательно водите машину...» - тихо, задумчиво, грустно…
Пусть будет так. Я подвожу его к подъезду, мы поднимаемся в квартиру, нас встречает Елена... Передаю из рук в руки. Прощаюсь. Выхожу из дома и бросаю взгляд наверх. Передо мной небоскрёб в 50 этажей, но я не могу отделаться от впечатления, что это огромный книжный шкаф, где на одной из полок, среди тысячи других, есть книга с названием «Александр Межиров», которую я только что брал и читал. Пытался читать...
Декабрь 2006 года
P.S. О поэтическом альманахе «45-я параллель» и разделе «Вольтеровское кресло» я Александру Петровичу потихоньку-помаленьку растолковал. Заодно уточнил дату рождения. Ведь зачастую встречаются два варианта: 6 сентября и 26 сентября. Но правильная дата - только 26 сентября. Так сказал классик!
Иллюстрации:
Александр Межиров и Михаил Этельзон в Нью-Йорке;
Александр Межиров и главный редактор издательства
«Слово/Word» Лариса Шенкер - на презентации журнала.
PS-45. 22 мая 2009 года в США, на 86-ом году жизни, скончался известный русский поэт Александр Межиров... Александр Петрович - один из последних знаменитых поэтов фронтового поколения. Он кремирован в США, а прах Александра Петровича перевезён на Родину. Церемония прощания с поэтом прошла в Переделкино 25 сентября 2009 года.
Шар отпустив земной...
Без слёз проводили меня...
Лишь крепче губу закусила
Видавшая виды родня.
9 мая. День Победы. Звоню Межировым - поздравить, как это делал и раньше, всё реже заставая голос на другом конце провода. Трубку берёт жена Лёля, искренне рада звонку... Поздравляю, прошу передать привет и поздравления Александру Петровичу... В ответ почти будничное, усталое, извинительное: «Александр Петрович в больнице, всё очень плохо, последние дни, вот и дочь приехала...»
Плохо было последние годы. Сейчас - очень....
Еду в Манхэттен, в обычный американский «Рузвельт госпиталь», где в обычной палате рядом с обычным чернокожим американцем, ожидающим обычного удаления пропитой в юности печени, лежит под аппаратами гремевший на всю страну - ту страну, в ту эпоху - поэт-фронтовик Александр Межиров
Мы были знакомы с начала 2005-го: несколько встреч на презентациях журнала «Слово/Word», несколько поездок на машине по Манхэттену, несколько визитов домой, несколько разговоров по телефону, стихотворение «Александру Межирову», принятое им с характерным «это нечто», и шутливое «Эмигранты, вперёд!», встреченное с улыбкой и тем же «нечто», - слишком поздно и слишком мало, чтобы писать об этом много.
Но иногда, словно дежавю, аллюзия, реминисценция (называйте, как хотите) вспыхивало: «мы под Колпино скопом стоим, артиллерия бьёт по своим...», «Мальчик жил на окраине города Колпино...», - то самое Колпино, где я четыре года жил и работал «молодым специалистом».
«Межиров»? - да ведь эта фамилия наверняка происходит от подольского местечка Межиров, около моей Винницы, а недалеко от него местечко Снитков, из которого явно вышли Снитковские, включая мою бабушку по отцу. И ведь оказалось, что Межиров знал: его предки по отцу - из Межирова на Подолье, славившегося своими печатниками. Когда-то там была большая синагога, сейчас - её развалины, а местечко теперь называется селом...
Мне нравилась чеканность его строк: ничего лишнего, каждое слово на вес свинца (золото и серебро оставим поэтам одноимённых веков русской поэзии) - иначе поэты-фронтовики писать не умели. Жизнь, а вернее, смерть научила писать именно так: каждое слово - пуля, каждая строка - снаряд, каждое стихотворение - бой. Всё - настоящее.
А техника стиха? - редчайшие, отточенные до полузвука рифмы. Сейчас это редкость.
«Который час, который час, который час на свете белом?»
Он был немногословен, по крайней мере, таким я застал его в своей жизни. И сегодня он молчал, с закрытыми глазами уже из какого-то своего «между» слушал классическую музыку. А на радиоприёмнике рядом с койкой была записка с просьбой - ради больного не переключать станцию, с такой музыкой ему легче.
«Какая музыка была, какая музыка играла...», - и бедный сосед по палате, отработавший своё мусорщиком (и это - Профессия!), тоже слушал оперы и симфонии, возможно, впервые в жизни. И ему это помогало в ожидании новой жизни после операции - уже инвалидом. Спрашиваю его, знает ли он, кто лежит рядом. Да, ему сказали, что это известный русский писатель. Даже подарили книги... на русском языке. Возможно, для него это событие… Чёрт его знает… Межиров слушает музыку, и я пытаюсь утешить и обнадёжить его темнокожего соседа.
«Я подымаю веки, лежу усталый и заспанный», - так Межиров написал в своём знаменитом «Воспоминании о пехоте». Именно это стихотворение всплыло в памяти. Нет, - сейчас иначе: «не подымая веки…»
«Я сплю, положив под голову Синявинские болота, а ноги мои упираются...» Нет, - «положив голову на Манхэттенские высоты...» А ноги? - да, конечно, «в Ладогу и в Неву».
«И на мое плечо на погон полевой, зелёный падают первые капли, майские капли дождя», - поразительно: моросил майский дождь, под которым я возвращался домой и повторял его строки, звучавшие сегодня по-другому.
Дежавю? Жизненные аллюзии? Реминисценции? - называйте, как хотите...
«Пули, которые посланы мной…» Нет, - «строки, которые созданы им».
9 мая... На Брайтоне неровным строем идут ветераны, скрывая под медалями и орденами свои раны. Идут за две отчизны от Москвы…
Памяти Александра Межирова
(Реминисценции)
Строки, которые созданы им,
вдруг возвращаются из переплётов,
очередью пулемёта - режут под корень, ревут...
Не подымая веки, лежит усталый и заспанный,
тлея костром неярким, шар отпустив земной.
И, когда я отворачиваюсь, пряча лицо своё за спину,
Манхэттенские высоты хлюпают вместе со мной.
А когда-то вставал и делал он - шаг в атаку,
ветер боя летел и свистел у него в ушах.
Но пятился фронт, и рушилась жизнь рейхстагом,
когда он делал - свой... второй... шаг....
И белый флаг вывешивал вражеским гарнизонам,
складывая оружие, в сторону отходя.
А по плечам его - отяжелевшим, бессонным -
били вслед, как сегодня, майские капли дождя.
шагая за океаны, забыв про военный устав.
И на привале в Портленде жил «эмигрант» игриво,
а пепел с цигарки стряхивал у Бруклинского моста.
Весна между тем крепчала, и глотки охрипли станций,
по мировым эфирам денно и нощно пыля,
требуя у противника безоговорочной капитуляции,
чтоб и его знамена бросить к ногам Кремля.
Но, просыпаясь словно, вдруг вспоминали что-то,
смежив державы веки: Межирова наяву...
Он спит, положив под голову Манхэттенские высоты,
а ноги его упираются в Ладогу и в Неву.
И снится в окопах Колпино, пристрелянные кюветы,
Синявинские болота, и пушками - по своим...
Закончились все вопросы и найдены все ответы:
земля ему... в Переделкино,
он прахом вернётся к ним.